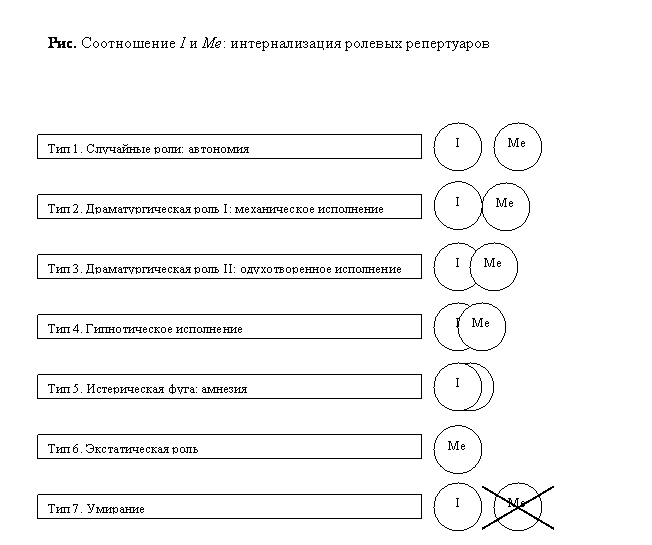КАРЬЕРА, ЭТОС И НАУЧНАЯ БИОГРАФИЯ: К СЕМАНТИКЕ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО НАРРАТИВА
Г. С. Батыгин
(Батыгин Г.С. Карьера, этос и научная биография: к семантике автобиографического нарратива // Моральный выбор. Ведомости. Вып. 20 / Под. ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карноухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2002.)
Биографическое повествование подчинено некоторым архетипическим схемам запоминания мест, событий и образов. Эти схемы, в отличие от мнемотехнических схем запоминания в эпоху, предшествовавшую изобретению книгопечатания, где манипуляции с памятными образами должны были захватывать всю душу целиком [1], воспроизводятся в институциональных образцах, заданных коллективными представлениями, организацией письменной речи и другими форматами «технической рациональности», диктующими свою надындивидуальную волю «жизненному миру». Роль личностного компонента здесь, скорее всего, минимизируется, если не считать способности к организованному запоминанию событий [2].
Карьера является одним из тех социальных институтов, которые превращают человеческую жизнь в продвижение по лестнице доходов, престижа и власти. В этом плане карьера эквивалентна вертикальной мобильности и поэтому хорошо запоминается с помощью фреймов жизненного пути, заданных «трудовой книжкой», « CV » или некрологом — последней реификации, направленной как бы вдогонку ушедшему. Вероятно, никакой иной «жизненный путь» не может быть интерпретирован в терминах карьеры: героическое подвижничество; не выходящее за пределы заурядного быта благословенное и мирное житие; умение вышивать крестиком, писать стихи, открывать для себя новые закономерности, починять примусы — любое достижение целей, не получающих внешнего институционального воспризнания, не вписывается в карьерные формы жизни. Более того, жизненный путь, не наполненный институционально кодифицированными событиями и ценностями, вообще не согласуется с многообразием биографических описаний [3]. О такой жизни ничего нельзя сказать, кроме того, что имярек родился, жил-был да и умер. Очевидно, он никого не интересует и не заслуживает упоминания в энциклопедии. С точки зрения карьеры его жизнь можно считать неудавшейся, как и жизни не попавших в энциклопедии неисчислимого множества живых и мертвых. Возникает искушение считать жизни людей, упомянутых в энциклопедии, удавшимися, что также сомнительно. В этом отношении карьера (удавшаяся жизнь) являет собой результат работы институциональной матрицы (аналога печатной формы), которая штампует стандартные «жизненные копии». Проблема заключается в том, чтобы установить форматы и функциональные параметры «жизненных копий», а также соответствующие им этосы и образцы селективности. Такими образцами являются ролевые репертуары, заданные требованиями профессии.
Карьера – не столько результат личных усилий, сколько «социальный факт», обусловленный консистентностью «социального характера» требованиям институционального образца, и нимало не зависит от намерений самого карьериста. В частности, мифологии «профессионального тестирования» и подбора персонала предназначены как раз для того, чтобы проблематизировать такую консистентность и создать адаптивный механизм селекции человеческого материала для предстоящих карьер. Предполагается, что нужно иметь определенные заданные качества для карьер политического деятеля, менеджера, врача, судьи, военного, ученого и т. п. Все эти образцы являются маршрутами продвижения вверх, маркированного значимыми событиями последовательных инициаций. На всех этапах осуществляется селекция заданных образцов поведения, артикулируемых не только в виде явных требований, но и «по умолчанию». В одном из таких мифов рассказывается о кандидате на пост топ-менеджера «японской» корпорации, который прошел длительное, изнуряющее тестирование и был приглашен на итоговое собеседование к самому шефу. Шеф сказал, что он с честью выдержал испытания, но корпорация все-таки предпочла другого кандидата. Неудачник учтиво поклонился и вышел из кабинета, а, забирая документы в канцелярии, сказал, что счастлив уже потому, что шеф осиял его своим взглядом. После этого он был приглашен в высокий кабинет вторично, и тот же шеф сообщил ему об успешном прохождении последнего испытания. Рациональное зерно такого рода мифологий заключается в том, что в основе всех карьерных реквизитов лежит конформность — принятие целей и средств институционального действия в качестве своих личных ценностей и целей. Если так, то карьера представляет собой ритуализированный образец интернализации нормативных реквизитов. Мы можем в соответствии с классической интеракционистской схемой различить в структуре личности Self два компонента: I и Me — автономное трансцендентальное «Я» и «социальное Я» (институциональные характеристики статусов) — и соотнести типы карьер с интернализацией ролевых репертуаров (см. рисунок в конце статьи) [4].
Тип 1 является внекарьерным типом поведения, поскольку предписанные случайные роли (составляющие фрагмент Me -комплекса) не имеют отношения к идентичности « I » и являются эпизодическими. Классы I и Me не пересекаются, локусы контроля сформированы таким образом, что экстернальный (внешний) локус минимизируется. Действительно, роли пассажира, абонента телефонных сетей, покупателя картошки, читателя газеты преимущественно не соприкасаются с личностной идентичностью, и их исполнение, как правило, не замечается и не контролируется агентом (исполнителем) действия. Никто не собирается идентифицировать себя с покупателем (если это не игра в покупателя). Исключение составляет адаптивное поведение в инокультурной среде, где необходимо постоянно подвергать свое внешнее поведение экспертизе с точки зрения его соответствия норме и тем самым подтверждать самооценку.
Усвоение эпизодических ролей и соответствующих образцов интеракции является здесь необходимым условием определения ситуаций как нормальных. Автономное «Я» вынуждено принимать внешние идентичности на свой счет. Так, например, ведет себя иностранец, опасающийся проявить неловкость, или новичок в организации, еще не знающий правил нарушения правил. Они боятся ошибиться и снизить самооценку. В последнем случае случайная роль (тип I ) переходит в тип II , где актор исполняет роль так, как это предписано в наставлениях. Очевидно, исполнение является по преимуществу механическим: I и Me лишь соприкасаются. В той степени, в которой профессиональные роли ограничены выполнением регламентов, они являют собой образцы механического исполнения, где рефлексивное «Я» наблюдает за социальным «Я» и контролирует его соответствие норме. Отношение I и Me отражает в данном случае идеальную ситуацию самоконтроля или «владения собой». Ситуация идеальна не потому, что воля рефлексивного «Я» преобладает над движениями «Я» социального, а потому, что такая раздвоенность и самоконтроль предписаны самим институциональным определением действия. Драматургическая роль с механическим исполнением присуща, например, социальному действию бюрократа, который за пределами «бюро» перевоплощается в нормального человека: Он стоит в очереди за картошкой, узнает об изменениях в соседнем ведомстве из газеты и негодует по поводу злоупотреблений чиновников.
Собственно говоря, драматургическая роль состоит в умении отделять внешнее от внутреннего таким образом, что семантика внешнего преобладает над семантикой внутреннего. Помимо всего прочего это означает, что врач лечит больного, независимо от того, как он лично к нему относится, преступник он или праведник, богатый или бедный, демократ или коммунист; воин не имеет личных счетов к врагу, а ненавидит его, следуя образцу интеракции. Профессионал-продавец демонстрирует доброжелательное внимание к привередничающему покупателю, хотя мысленно уже назвал его сволочью, и будет делать это всякий раз, когда сложится аналогичная ситуация. Служение профессионалов – врачей, чиновников, военных – оформлено детально регламентированными чинами, званиями и знаками различия (фонендоскоп на шее аналогичен погонам). Автобиографический нарратив обнаруживает непересечение I и Me в тематической и жанрово-стилистической фокусированности рассказа либо на личных обстоятельствах, либо на институциональных семантиках. Например, автобиографиям профессионалов свойственно непересечение «дома» и «работы». Исключения объясняются метатекстовыми семантиками, например, биографическим рассказом политического деятеля, где все достижения приписываются личным качествам. Локус контроля является по преимуществу распределенным, поскольку исполнение роли, хотя и является механическим, подлежит постоянному сознательному контролю.
Самое совершенное механическое исполнение не может быть совершенным, поскольку либо задача становится рутинной и выполняется по привычке (здесь исполняемая роль становится эпизодической), либо человек начинает помалу вживаться в роль и усваивать институциональный образец в качестве личной задачи. Исполнение принимает одухотворенный характер и переходит в тип III . Ролевые репертуары, соответствующие этому типу, предписывают принимать ценности и цели организации в качестве собственных ценностей и целей. Локус контроля является, скорее всего, внутренним. Если это условие реализуется, можно говорить о формировании карьерного образца поведения. Такой тип поведения и соответствующий социальный характер предполагают, что человек отождествляет значительную часть своего «Я» с доминирующим институциональным образцом и вкладывает душу в его исполнение. Соответственно, карьера становится действительностью. Это происходит не потому, что человек стремится к карьере, а потому, что к карьере стремится все его существо, часть которого он отдает институциональному образцу.
Например, отождествление личных интересов с интересами организации является одной из первых предпосылок вертикальной мобильности: организация начинает опознавать актора как «своего» и возникают отношения раппорта — взаимной координации действия. Разумеется, роли пассажира, покупателя и клиента парикмахерской здесь менее пригодны, чем роли ученого, профессионала и военного. Где-то в середине воображаемого континуума находятся институциональные образцы слесаря, начальника отдела кадров, учителя физкультуры и участкового врача. Ближе к высоким образцам начинает работать семантика «призвания», которая и образует (формирует?) материал биографических нарративов. Имеются и исключения из стратификационной модели карьер: тип Акакия Акакиевича Башмачкина характерен тем, что он брал некоторые бумаги домой, чтобы переписать их для собственного удовольствия. Тем не менее, просмотрев многотысячную библиотеку биографических текстов, нетрудно увидеть, что почти все они созданы теми, кто превратил свою жизнь в гонку за статусом, служению идее (научной, религиозной либо художественной) или борьбе с врагом — во всех случаях рефлексивное «Я» растворено в семантике институционального образца. Поэтому биографический текст следует воспринимать как стилизованное воспроизведение определенного жанрово-стилистического канона, например, «рассказа о жизни ученого». Очевидно, человек, не усвоивший институциональную семантику, лишен права на биографию и вынужден прибегать к стилизации. Поэтому автобиографии «простых людей» несут на себе отпечаток героического подвижничества (как правило, страдания) и, во всяком случае, как показал Б.О. Божков, фактографическая канва биографии соотносима и сопоставима с общезначимыми историческими событиями, которые служат определенными реперными или контрольными точками[5].
Тип IV является вырожденной формой карьерного типа поведения, где институциональный образец получает гипнотическое влияние над «Я» и становится доминантой ролевого репертуара. Здесь жизнь посвящена определенному призванию таким образом, что иные семантические поля оказываются в значительной степени подавленными, возникает отождествление себя с позицией избранного именно к данной роли. Воспоминания о других идентичностях сохраняются, но не могут быть мобилизованы в жизненных стратегиях и автобиографических нарративах как не имеющие значения. Стилистика автобиографии приобретает характер возвышенной, эмфатической речи. Этим и специфичны «рассказы об ученых». Наука отличается от других регионов жизненного мира тем, что семантика «жизни» и семантика «карьеры» настолько пересекаются, что становятся практически неотличимыми.
Действительно, утвердившийся в современной литературе образ ученого предписывает быть человеком науки во всем, даже в вещах, не имеющих с наукой ничего общего. Если жизнь является более или менее приближенной копией сакрализованного, «олитературенного» институционального образца, можно предполагать, что она конституирована ценностями и нормами производства знания, и сама личность выступает в качестве средства реализации «призвания», то есть несет на себе печать сакрального. Тем не менее, тип IV возможен лишь при условии фактического воспризнания актора в качестве представителя институционального образца, который поддерживает ролевой синдром Me . Когда статусная позиция актора является лишь воображаемой, случай приобретает клиническую форму, даже если он поддерживается символическими знаками воспризнания.
Символическое поддержание образца функционально необходимо в ситуациях институционализированного гипнотического исполнения, когда само напоминание (и воспоминание) о том, что должность, ученая степень и звание, даже лавровый венец гвоздем не прибиты, являет собой семиотическую катастрофу или потерю смысла жизни. К сожалению, нет надежных данных, показывающих связь преждевременной смертности с лишением значимой социальной позиции, однако можно предположить, что утрата смысла институционального существования влечет за собой и угрозу физическому существованию. Функциональная поддержка состояния загипнотизированности статусом и воспризнаниями выражается в пожизненных званиях, наградах, ритуальных руководящих постах и других символах, позволяющих отождествлять собственное «Я» и институциональный образец «Я» даже после того, как необходимость в таком отождествлении отпала. Так создается артефакт почетного существования. Однако круг таких артефактов достаточно ограничен «элитными» позициями в политической власти, культуре, науке и других областях, где осуществляется трансмиссия ценностей и создаются образцы социальных мифологий: героика, высокое искусство, научная классика, подвижничество, «народная любовь».
Системы символической поддержки предписанных статусов образуют один из важных компонентов стабильных социальных структур. Эти системы включают в себя отчетливо очерченный жанр биографического повествования, который называется «Жизнь замечательных людей» (в более локальной версии «Пламенные революционеры»). Круг этих людей узок. Они почти в обязательном порядке включаются в энциклопедии (и, при смене исторических мифологий, исключаются из них), композиция, стилистика и даже тематика биографических повествований стереотипизированы и следуют, в принципе, одному заданию: продемонстрировать принадлежность «Я» институциональному образцу высшего социального воспризнания. Великолепные примеры такого повествования дает подготовленный В.И. Невским автобиографический словарь революционеров, в повествованиях которых отчетливо представлены прецедентные темы ненависти к гимназическим учителям (если речь идет о хедере, то ненависти к раввинам), подчинения всей частной жизни жизни общественной, идейной прозорливости, личной связи со «значимыми» вождями движения. Аналогичный семиотический комплекс явлен в биографиях ученых, где форсируются темы трудностей на ранних этапах карьеры, личная связь с «великими» («В детстве он зачитывался трудами Шредингера…»), противостояние консервативной традиции. В автобиографиях российских социологов модальный сюжет — принципиальный конфликт с господствующей идеологией (даже у тех, кто специализировался по научному коммунизму) [6].
Тип V , который Т. Сэрбин назвал истерической фугой, является частным случаем предыдущего типа, поскольку определение ситуации в данном случае принадлежит в значительной степени «Я», которое, следовательно, несет ответственность за различение реального и воображаемого. В качестве реальной может определяться ситуация, где «Я» приписывает себе иную семантику, чем приписывают ему «значимые другие», — тогда институциональный образец «забывается», наступает социальная амнезия. Биографический нарратив замыкается «внутренним Я», где переживание собственной жизни превращает внешние события в проекцию чувств и измышлений. Этот вид литературы в изобилии представлен в романтической традиции XVIII века, где «чувствования человеческого сердца» противопоставлены холодной рассудочности мира. Жанр научной биографии испытал явное влияние этой традиции, но институт внешнего воспризнания вклада и значимость профессиональных сообществ подавляют «внутреннее Я» в научных биографических повествованиях, во всяком случае, вынуждают использовать универсалистские критерии отбора значимых событий. Однако и последнем случае карьера воспринимается как незначимое внешнее обстоятельство жизненного пути.
Тип VI (Экстатическая роль») представляет собой асимметричный параноидальный случай, когда рефлексивное «Я» подавляется институциональным образцом и растворяется в нем. Если не считать повествований с психиатрическим анамнезом, обычно такие случаи воспроизводятся на фоне воображаемой «сверхценности» биографии и сопряжены с полным невниманием к объективной стороне изложения (что называется «без зазрения совести»). Вероятно, экстатические моменты присутствуют в автобиографическом дискурсе в качестве рационализаций семантических задач, решение которых связано со снижением самооценки автора. «Карьера» как семантическая единица приобретает здесь вымышленный, мифологизированный характер.
Тип VII является сконструированным и нимало не связан с биографическими повествованиями и, тем более, карьерами. Речь идет об экзистенциальной ситуации «бытия к смерти», где все определения, тем или иным образом соотносящиеся с «социальным Я», теряют всякий смысл. Остается экзистенциальное «Я», лишенное определений. Так интерпретируется «Смерть Ивана Ильича»: его семья, важное место в департаменте, сослуживцы, наследство — все отступает перед лицом смерти, которая в то же время открывает облегчение и жизнь бесконечную.
Рассмотренные типы могут стать основой для семантического кодирования биографических повествования только в том случае, если речь информанта имеет спонтанный характер и не подчинена структурным предписаниям интервью. Тогда появляется возможность экспериментально проконтролировать распределение индивидуальных и институциональных семантик, а также локусов контроля. Однако при проведении биографических интервью структурные ограничения возникают «автоматически», и повествование организовано в хронологическом порядке в соответствии с логикой последовательных институциональных достижений. Тем не менее, и в этом случае имеется возможность установить степень артикуляции «рефлексивного Я» и, соответственно, тип карьерного (внекарьерного) поведения.
Институциональные образцы карьерного поведения в науке обусловлены как индивидуально-типическими характеристиками ученых, так и функциональными позициями в системе воспроизводства научного знания и научном сообществе [7]. Следуя У. Хагстрому, Б. Виккери и Э. Виккери указывают на «управляющих», «лидеров высшего уровня», «неформальных лидеров», «лидеров ориентированных на учеников», «педагогов», «ученых локального масштаба», «продуктивных изолятов», «малопродуктивных изолятов» и «маргиналов» [8]. Не исключено, что эти типы являются конкретизациями функциональных реквизитов научных сообществ, главные из которых – администраторы, исследователи, брокеры. Речь идет о выполнении функций распределения власти (администрировании), производстве знания и установлении сетевых связей (коммуникации). Эти функции могут совмещаться, но в развитой исследовательской программе они реализуются путем специализации административных, исследовательских и информационных органов. Эти функции не обязательно принимают вид структурных подразделений, но почти всегда выполняются отдельно. Соответственно, осуществляется и селекция научного персонала: как собаки, ученые подразделяются на служебных, охотничьих и декоративных. Если так, то и типы научных карьер можно подразделить в зависимости от того, с каким материалом соотносится биографическое повествование: власть, знание или коммуникация. Во всех трех указанных «регионах» индивидуальные и личностные идентичности различаются. Гипотеза заключается в том, что эти «материалы» не вполне совместимы, поэтому несовместимы и типы карьер. Институты производят полезные и необходимые фикции, но головоломки и аномалии (наука переднего края) производятся теми, кто плохо адаптирован к институтам и воспринимает институциональные образцы как эпизодические роли. «Все исследователи делятся на тех, кто тяготеет к центру институций и контролю за институционным полем, и тех, кто тяготеет к маргинальному, периферийному положению, которое не дает контроля над дисциплиной, но зато обеспечивает большую свободу и независимость», – пишет М. Ямпольский [9]. Проблема заключается в том, чтобы установить текстовые образцы и речевые действия, обнаруживающие степень включенности в институциональный образец науки.
В той степени, в какой научное сообщество включено в рынок идей и ресурсов, важнейшую роль играют «брокеры», которые могут не принадлежать управленческим стратам, но в тоже время координировать обмены и сетевые взаимодействия, выходящие за рамки сложившихся институтов. Как правило, именно они являются активным ферментом в производстве знания, который необходим при любой коммуникации. Они осваивают рынок и выполняют работу антрепренеров и инноваторов, стимулируя формирование «незримых колледжей». Соответственно различаются и формы воспризнания научных карьер. Известность, ученые степени и звания, количество публикаций, должности – все эти рутинные маркеры успеха и продвижения в науке присущи административным карьерам, однако производство знания создает и неформальные легитимации и критерии научного престижа и траста (то, что принято обозначать как «имя»), непосредственно не связанные с публикационной активностью и должностным продвижением. Здесь работают «эффекты Матфея»: те, кто получил признание, выступают в роли гарантов качества идей, на них ссылаются даже тогда, когда вклад принадлежит другим исследователям [10].
Семантические маркеры карьеры функционально связаны с артикуляцией нового знания и авторского вклада в науку. Однако производство «нового» подчинено достаточно жестким стандартам текстообразования. «Создание нового является не выражением автономной человеческой свободы, которая не хочет мириться с господствующими нормами и правилами, – пишет Б. Гройс, – а подчинением требованиям современной культурной индустрии, которая извне навязывает художнику или теоретику необходимость нового, если он хочет иметь в ней успех» [11] . Равным образом, система воспризнания научного результата требует «нового» как фигуративного текстового образца, а не как обнаружения аномалии в предшествующих тематических концептуализациях. Иными словами, текст должен содержать более или менее ясное указание на новизну, выраженную, как правило, в форме неприятия «устаревшего» и «традиционного». Кроме того, «новое» всегда возникает при соприкосновении с «чужим». Поэтому в научных биографических повествованиях активно мобилизуются оценочные речевые акты [12] , позволяющие концептуализировать понятия традиции и классики, противостоящие «новому», которое является необходимым компонентом институционального, в том числе дисциплинарного, обновления.
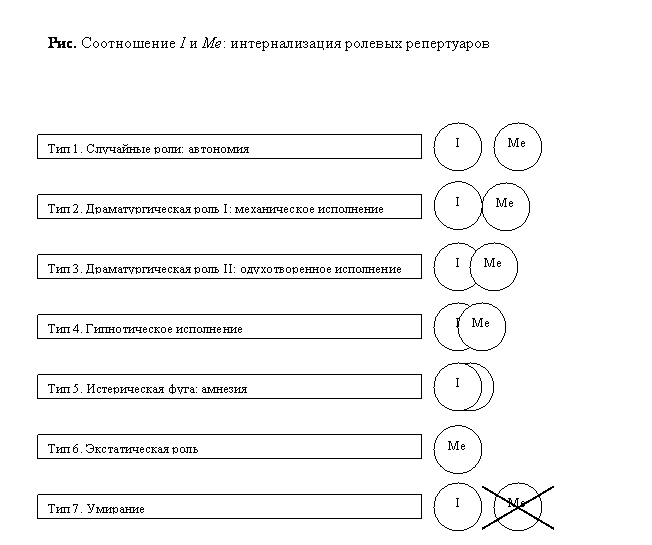
Сноски
Автор признателен Н.Я. Мазлумяновой за неоднократное обсуждение проблемы научных карьер, а также любезное разрешение использовать неопубликованный текст ее статьи «Человек в науке».
1. Йейтс Ф. Искусство памяти / Пер с англ. Е.В. Малышкина. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 6.
2. Автор признателен М.В. Рассохиной и Д.М. Рогозину за возможность использовать неопубликованный текст выполненного ими перевода главы «Автобиографическая память» из книги: Sudman S ., Bradburn N ., Schwatz N . Thinking about answers . San Francisko: Jossey-Bass Publication, 1996.
3. Голофаст В. Б. Многообразие биографических повествований // Социологический журнал. 1995. № 1.
4. Интернализация ролей как соотношение I и Me рассмаривается Т. Сэрбином: Sarbin T . Role theory. New York: Free Press, 1967.
5. Божков О.Б. Биографии и генеалогии: ретроспективы социально-культурных трансформаций // Социологический журнал. 2001. № 1. С. 78.
6. Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах / Отв. ред. и автор предисл. Г.С. Батыгин; Редактор-составитель С.Ф. Ярмолюк. СПб.: Изд-во РГГИ, 1999.
7. Индивидуально-психологические характеристики личности ученого рассматриваются в книге: Аллахвердян А.Г., Мошкова Г.Ю., Юревич А.В., Ярошевский М.Г. Психология науки. М.: Московский психолого-социальный институт, 1998. С. 169-181.
8. Виккери Б., Виккери Э. Информационная наука в теории и на практике: реферат / Институт научной информации по общественным наукам РАН. М., 1988.
9. Ямпольский М. Личные заметки о научной институции // Новое литературное обозрение. 2001. № 4 (50). С. 100.
10. Батыгин Г.С . «Эффект Матфея»: накопленное преимущество и распределение статусов в науке // Ведомости. Тюменский гос. нефтегазовый университет; НИИ прикладной этики; Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень, 2001. С. 173-185
11. Гройс Б. О новом // Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Изд-во «Знак», 1993. С. 115.
12. Рябинская Н.С. Оценочные речевые действия в дискурсе социальных наук. Рукопись. 2001.