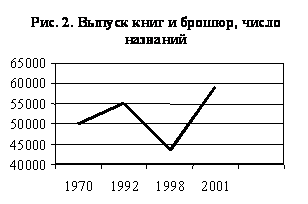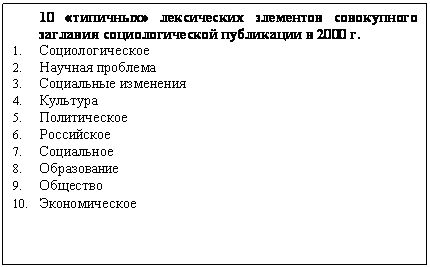«СОЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНЫЕ» В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА: СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕМАТИЧЕСКОМ РЕПЕРТУАРЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Г.С. Батыгин
(Социальные науки в постсоветской России / Под ред. Г.С. Батыгина, Л.А. Козловой, Э.М. Свидерски. М.: Академический проект, 2005.)
Социальные науки как текст
Бытование идеи или некоторого примитива (неразложимой семантической единицы) в публичной речи претерпевает периоды эволюционного расцвета, стагнации и исчезновения (коллапса). Эти периоды можно эмпирически проследить в изменении «концептосферы» общества — прежде всего в текстах, визуальных рядах и речевых действиях. Здесь важно не только что говорится, но и как говорится. Таким образом, социальные науки интерпретируются здесь как текстовая деятельность, осуществляемая в определенной социальной среде. Иногда идея находит для себя благоприятную среду и начинает активно жить и «размножаться», а иногда превращается в окаменелость, и никакие силы не расшевелят ее. Таковы судьбы литературных жанров и стилей, общественных идей, художественных образов, предрассудков и научных тем. Некоторые из них живут долго, но и в этом случае чаще всего используются в качестве оболочек или «ренессансов» для создания и продвижения «нового» [1]. Разумеется, невозможно ни объяснить, ни предсказать жизнеспособность идеи, но можно описать и систематизировать симптомы ее речевого поведения. Было бы упрощением рассматривать «коммунистический» и «посткоммунистический» дискурсы в оценочных терминах и, тем более, обсуждать «крах советского марксизма». В центре нашего внимания — структурные изменения в системе текстового производства социальных и гуманитарных наук независимо от политической истории России. Замысел работы заключается в том, чтобы проследить историческую трансмиссию дискурсивных образцов и возникновение легитимационных кризисов в системе социальных представлений.
В качестве объекта исследования всегда выступает текст как результат работы языковой системы. Однако само различение внутри корпуса научного знания его внутреннего невербализованного компонента, в том числе замысла, лексикона, базовых метафор, дискурсивных техник производства и организации текстов науки, в том числе бытовых коммуникаций, полемики и институционализированного текста, принимающего форму публикации (сообщения, охраняемого дисциплинарным узусом, приоритетами и авторскими правами) дает возможность прояснить языковую перспективу в социологии знания. В фокусе исследования оказываются схемы действий говорящего, а также языковые единицы, которыми он оперирует по определенным правилам. Проблемой является также перенос когнитивных моделей из одной тематической области в другую, в том числе qui pro quo . Языковые единицы не сводятся к морфемам, лексемам, нормам синтаксиса и фонетики. Здесь работают прототипы научных концептов, неэксплицированные представления. Различение концептуальной и языковой картин мира позволяет проблематизировать полноту языковых ресурсов дисциплины и их адекватность концептосфере науки. Достаточно ли оснащена теория языковыми ресурсами, чтобы стать парадигмой? Гипотеза заключается в том, что парадигматизация знания определяется степенью его вербализации: чем более специализирован лексикон дисциплины, «правила соответствия» и область фактофиксирующих предложений, тем сложнее ее институциональная организация и влияние на совокупный научный текст. Иными словами, теория начинает доминировать в научном сообществе только тогда, когда ее текст принимает завершенную структурную форму.
Социальные науки редко рассматривались как автономная текстовая «вселенная». Методом изучения гуманитарии как литературного образца был «вульгарный социологизм» — выведение ее задач из научных и культурных запросов эпохи, идеологии или «быта». В этом случае знание неизбежно редуцируется к субстанции производственных отношений, «власти», «травмы» или иных таинственных сил, образующих настоящую, а не самосознательную, реальность. Ю.М. Лотман прочертил обратную траекторию: от литературы к жизни и представил все это как «текст» — универсальную объяснительную модель. Отсюда и идея реальности текста, который приводит к возникновению новой реальности, уже внетекстовой: культуре, политике, социальной жизни, в том числе повседневности. Так происходит «олитературирование» социальных наук, политического сознания, идеологий (официальных и повседневных).
Социальные науки представляют собой эпистемическую химеру — соединение сущностно несоединимых феноменов знания: описания реальности как она есть и идеального проекта, не признающего мир в его наличном бытии и стремящегося изменить его в соответствии с художественным идеалом. Этот разрыв между проектом и миром, отчетливо артикулированный романтической традицией, в значительной степени определяет интеллектуальный контекст социальных наук в России, где печатное слово является источником «коллективных представлений», репрезентантом священного[2]. Результатом конституирования «письма» как формы организации природного и человеческого материала стала реификация социального проекта как вырожденной формы эсхатологии. Социальные науки подчинены здесь задаче социального преображения [3] и, соответственно, освобождены от тривиальных «позитивистских» проблематизаций, обнаруживающих значимость в безыскусности факта и тем самым ставящих свое предназначение в зависимость от сопротивления материала. Избавленные от фактичности, социальные науки (равно как и идеологии) выполняют не денотативную функцию (описание реальности), а функцию фигуративную, связанную с производством репрезентаций — превращением внетекстовой реальности в текстовую социальность [4]. Тематическая картография науки в немалой степени определяется включенностью знания в денотативный или фигуративный контекст. Математика, химия, физика описывают мир. Философия, социология, культурология и политическая наука, в меньшей степени филология должны выражать личность творца и получать от него свою ценность [5]. Тем самым нормы производства социального знания оказываются интегрированными в инородную идейную среду, а научное сообщество подчиненным разнонаправленным ценностным векторам — оно должно быть сообществом «социальных ученых» (эта некорректная для русской литературной нормы конструкция в данном случае достаточно точна), задача которых заключается в связывании общезначимых определений реальности для массового сознания, и одновременно исследователей «фактичности», работающих для колледжа. Так приходится служить двух господам.
«Нормальные» науки отличаются от наук социальных и других форм знания (эстетического, повседневного, религиозного) не столько предметным материалом, сколько методом текстообразования. И в том и другом случае создаются текстовые конструкты. Однако конструкт конструкту рознь. Одни конструкты проверяемы и, следовательно, в этом смысле реальны, другие являются вымышленными (данное обстоятельство может быть открыто задано семантикой конструкта, но может никогда не обнаружиться), третьи конструкты принадлежат сфере воображаемого (имагинативного) [6]. Наука как форма знания конституирует внетекстовую реальность, точнее, создает специфический вид текста, репрезентирующий внетекстовую реальность — данные, которые очерчивают область «фактов». Их отличие от высказываний заключается прежде всего в референциальности, то есть возможности универсальной процедурной проверки независимо от «точки зрения» исследователя. Действительно, цифры обладают магическим свойством быть объективными. При этом «данные» всегда могут быть отличены от внетекстовой реальности и оценены параметрами релевантности, надежности и точности. Данные, концепты и связывающие их рассуждения (выводные процедуры) образуют «теорию», преобразующую реальность в текст и таким образом соединяющую в себе «реальное», «вымышленное» и «воображаемое». В результате акта вымыслообразования воображаемое приобретает сущностное свойство реального и обретает непроницаемость социального факта. Действие текста состоит в том, чтобы сделать наглядным взаимодействие вымышленного, реального и имагинарного, создать предпосылки для перекодировки наличного мира для постижения мира неналичного. В. Изер отмечает, что пока системы знания являются организующими формами наличного мира и исполняют свою регулятивную функцию, их принимают за саму реальность и поэтому не замечают. Акт селекции разрушает их заданный порядок, тем самым превращая их в объект наблюдения. Но сама селекция не задана системой, как акт вымыслообразования она обнаруживает интенциональность текста, вводит в текст внетекстовые реальности. В этом отношении совершенно не важны «подлинные» намерения авторов, поскольку различения, которыми он руководствуется, заданы самим текстом.
Вымысел играет существенную роль в производстве научного знания и деятельности социальных институтов, но литературный вымысел своей вымышленности не скрывает. Соответственно, требуется и определенное отношение к тексту как вымыслу. А в социальных науках вымысел приобретает промежуточную форму точки зрения, которая есть не что иное, как форма селекции, преодоления границ. Так или иначе, «реальный мир» заключается в скобки — «как если бы» он был вымышленным. Социальные науки отличаются от литературы тем, что сохраняют естественную установку на существование реального мира. С помощью кантианской конструкции «als ob» [7] из представления о возможном извлекаются необходимые следствия для реального и указываются направления пересечения границ как основное условие вымыслообразования. Но почему из внетекстовой реальности произведен именно такой отбор — установить невозможно [8]. К. Поппер считал, что область «творчества» в методологии науки не может быть проблематизирована: выбор als ob конструктов и новых селекций может быть вызван сновидением, озарением, экстазом, страхом, но ни один из эмоциональных или волевых импульсов не объясняет селекции и способа текстообразования.
Основная трудность текстового анализа социальных и гуманитарных наук в России заключается в их структурной неотграниченности от публичной агенды, представленной в массовой информации, социальной публицистике, политических дебатах, в определенной степени, художественной литературе. Это создает феномен тематически и стилистически контаминированного дискурсивного пространства, где социальные и гуманитарные науки должны быть предварительно вычленены из совокупного текста по некоторым неявным, но значимым критериям. С аналогичной проблемой сталкивается библиограф-систематизатор, обязанный отнести произведение к одному из разделов публикационного потока и руководствующийся, как правило, явными критериями — заглавием произведения, сведениями об ответственности и видом издания, — зная, что элементы библиографического описания лишь репрезентируют авторскую речь. Так и проникновение во внутренние пласты совокупного текста гуманитарии часто дает иную картину, чем представленная на авансцене науки.
Погруженная в публичный дискурс научная речь сопротивляется своему растворению в чужеродном идейном составе, иногда ругается, но чаще капсулируется, прячется от давления внешней среды и создает защитные слои и буферные формы взаимодействия с «общественностью». По всей вероятности, этот промежуточный, по природе химерический, слой образует основную массу текста социальной и гуманитарной науки, где находят выражение не столько профессиональные, сколько собственные мысли гуманитариев. Иной вопрос: откуда возникают собственные мысли. Актуальность научной темы, то есть ее способность изменить модели объяснений, заменяется здесь актуальностью общественного интереса, прозрачная доказательность соседствует с эзотеричностью и суггестивностью аргументативных стилей, внутренняя экспертиза вытесняется эффективным продвижением текстового образца на рынок «символических репрезентаций», профессиональная работа уступает место интеллектуальной жизни и свободе самовыражения.
Создаются «элитно-маргинальные» зоны гуманитарной науки, порождающие специфический вид текстообразования, где ключевую роль играют альтернативные образцы теоретизирования и экзальтированного речевого поведения [9]. Сформировавшись в 1960-е — 1980-е годы как «андерграунд», или катакомбный (самиздатовский) слой социального знания, внутренне связанный своей борьбой с официальной культурой [10], в 1990-е годы этот текст утратил возможность автономного существования и выродился в разновидность «великого отказа», оснащенного концептуальными фантомами «насилия», «травмы», «власти», «деконструкции», репрессированного либидо и т. п. Семантические аналоги «совращения» стали наиболее заметной инновацией в социальных науках переходного периода. Аналогичный параллельный процесс наблюдается и в российской литературе [11]. В частности, одной из важных (судьбоносных) тем, открывших период «гласности», была допустимость эротики и матерщины в литературной речи. Фактически, задача заключалась в делегитимации привычных селекций нормативного универсума и определений «должного», лежащих в основе социальных порядков и норм литературного (и научного) вкуса. Направления преобразований были определены в рамках литературного процесса 1920- и 1930-х годов [12], но в точно таком же виде они были привнесены «докторальной публицистикой» конца 80-х годов в философию, социологию, экономику, частично в литературоведение и языкознание.
В условиях быстрой переориентации тематического репертуара и смены «иконостаса» хрестоматийных имен происходит и поиск новых образцов и базовых метафор социально-гуманитарного знания. Поскольку институциональная организация науки, моральный контроль «колледжа» и механизмы нормативной регуляции научного воспроизводства (школы, нормы рецензирования, стратификация литературного корпуса, «эффекты Матфея») оказались в значительной степени разрушенными еще при коммунистическом режиме, в 1970-е —1980-е годы, реструктурирование текстового пространства социальных и гуманитарных наук в определяющей степени стало зависеть от энтузиазма (одержимости) индивидуальных акторов, осваивающих рынок идей примерно так, как осваивается terra incognita . Так возникло множество новых «звездных» имен в библиографических списках социальных и гуманитарных наук постперестроечного периода. Однако и традиционная (профессиональная) наука продолжала свою работу, усилив формирование многослойного текстового пространства — конгломерата тем, речевых стилей, разновидностей успеха, публикационной активности, «трастовых» отношений, стратегий цитирования, включенности в сети научной коммуникации, отношения к публичным институтам, социальных статусов. Иными словами, «республика ученых» приобрела вполне демократический вид, где на фоне перманентного гражданского конфликта идет интенсивный поиск канона, классики, форм солидарности, институциональной поддержки и трансмиссии культурного образца — создается «нормальная наука» и соответствующие институциональные реквизиты профессии.
Если рассматривать вертикальную стратификацию текстового пространства, можно предположить, что его высшие страты маркируют себя противостоянием нормативизму и «свинцовому позитивизму», создают эталон виртуозной интеллектуальной игры, где техника репрезентации материала не выходит за рамки бриколажа, и индивидуализация авторского стиля является условием воспризнания в сообществе[13]. Однако «альтернативная гуманитария» все-таки стремится создать матрицу нормативных образцов и, следовательно, проходит неизбежный для каждого интеллектуального стиля период рутинизации,. Поиск этих образцов реализуется, как правило, по схеме масс-коммуникативного воздействия, где исповедь, разоблачение, скандал, сенсация, интеллектуальная (а также светская) жизнь «героя-звезды» являются функциональными эквивалентами воспризнания (успеха) [14]. Процессы структурной дифференциации совокупного текста социальных и гуманитарных наук сопровождаются и соответствующей дифференциацией научного сообщества уже вне модели академической иерархии [15], путем воспроизводства художественного, «интеллектуально-культурного», образца, включенного в ряд символических репрезентаций, «зрелищ» и инсценировок, в том числе и инсценировок научной деятельности. Одним из маркеров альтернативной интеллектуально-культурной «элитности» в 1990-е годы являлась «признанность на Западе», и сама позиция репрезентанта «западных» ценностей позволяла создать новое измерение социального статуса в российском интеллектуальном сообществе [16]. Какие бы внешние различия ни проводились, задача отграничения научного текста от публичного в условиях структурных преобразований институтов воспроизводства знания (сама постановка такой задачи часто отвергается) требует учета семантического задания, стилистики и прагматики текста — его обращенности к «публике» либо профессиональному сообществу — референтной группе ordo literatorum , являющейся гарантом воспроизводства корпоративных ценностей дисциплины. Проблема заключается не в нарушении норм производства знания и «разрушении науки» [17]. Даже когда нормы нарушаются, само осознание нарушений поддерживает нормативный порядок. Иная ситуация возникает при создании социально-эпистемических химер, подмене норм, когда научное производство превращается в производство культурное, непредвиденный результат деятельности интеллигенции. Тогда механизм взаимозаменяемости институтов начинает способствовать разрушению нормативного образца. Если так, то диффузность тематического репертуара социальных наук определяется не столько поиском новых идей и концептуальных подходов, сколько неразвитостью академических институтов, отсутствием автономии академического сообщества от внешних форм социальной регуляции и воспризнания научного результата [18].
Воспроизводство литературного образца эпохи включает в себя и соответствующий ему тип чтения. Читатель пересоздает текст, превращает его в факт семиотического обращения и воспризнания (или невоспризнания) в дискурсивном пространстве. В некоторых ситуациях превращение произведения в социальный факт непосредственно не связано с их открытостью и, в частности, институтом «публикации» — как раз неопубликованные (недоступные) произведения могут формировать значимые сегменты текстообразования, в том числе его мифологии: апокрифические зоны и «предания». В советский период такую, отчасти мифологическую, функцию выполняли так называемые «спецхрановские» тексты (которые были широко известны в узком кругу и способствовали фрагментации профессионального сообщества на «посвященных» и «профанов»), а также переложения идей в аллюзивной «эзоповой речи» [19]. Советским режимом был поставлен уникальный эксперимент по цензурированию желательного и нежелательного чтения, который привел к фантастическому усилению значимости «закрытых» текстов и их точечного воздействия на круг чтения и интеллектуальное сообщество. Несомненно, советское общество (внутри себя) не было государственно-иерархической (административной) системой с навязанной «сверху» монолитной идеологией «марксизма-ленинзма». Формой существования этой системы бы непрекращающийся идейный конфликт и деконструирование легитимационных фантомов [20].
Репрессивность коммунистической идеологии и раздвоение социальных наук на их прогрессивную и консервативную части не объясняют эволюцию коммунистического режима. В частности, нельзя не учитывать, кроме репрессий, и механизм общественного согласия, важной частью которого являются социальные науки [21] . Как показал Е. Добренко, эстетика социалистического реализма не была придумана Сталиным, Горьким, Луначарским, а строилась в явном соответствии с социальным заказом: «Народность является поистине основным принципом соцреализма, и эстетическая встреча ее с партийностью составляет действительное эстетическое ядро, главное эстетическое событие соцреализма. Социалистический канон во многом порожден читательским «социальным заказом» и лишь оформлен властью, освящен ею действительно во имя читателя» [22] . Массовые репрессии, материальные лишения, бесправие не могли поколебать режим до тех пор, пока они вписывались в легитимационную систему, как пишет Г.Р. Ромашко, пока они имели упорядоченный институциональный облик [23] . Но когда в относительно благополучные времена легитимационная система режима начала разрушаться и власть заговорила на разных языках, рухнул и режим.
Догма превращается в ересь тогда, когда массовое сознание стремится почувствовать (а не просто провозгласить) идеологический постулат [24]. Поэтому стремление к искренности было самым разрушительным и гибельным для идеологии феноменом «оттепели», который она не могла не поддерживать в рамках мифа о «партийности» как отсутствия каких‑либо скрытых от партии мыслей. В этом отношении коммунистическая идеология похожа на идеологию ранних протестантских движений, где публичное покаяние и открытость личной жизни были основными требованиями посвящения. Внутренняя жизнь, в отличие от жизни общественной, трактовалась как страдание и переживание. Культ романтического героя разделил общественное и личное как черное и белое, лживое и честное. Характерно, что коммунистический идеал презрения к личному благосостоянию и «накопительству» противостоял «лживой» стилистике партийных постановлений [25]. Официальный сегмент этой деконструкции маркировался непрекращающимся требованием «восстановления ленинских принципов» вплоть до начала 1990-х годов. Но и в посткоммунистическую эпоху воспроизводятся прежние оппозиции социального проекта, истоки которого обнаруживаются не столько в тексте реформированных социальных наук, сколько в ситуации чтения, устремлении и настрое читателя, которые сохраняют механизм культурной селекции. Е. Добренко отмечает реальную мозаичность общества, которое всегда разделено на культурные страты, каждая из которых потребляет «свою» культуру и эта «своя» культура выполняет множество разных функций — эскапистскую, социализирующую, компенсаторную, информативную, рекреационную, престижную, эстетическую, эмоциональную и агитационно-мобилизующую [26]. Проблема литературного быта была сформулирована в исследованиях ОПОЯЗа и развита в формальной социологии литературы 1920-х годов. Предметом исследования становилось «бытование литературы». Т. Гриц, В. Тренин и М. Никитин предложили концепцию профессионализации писательского труда, подразумевая формирование литературных рынков и приход на смену писателю-дворянину писателя-профессионала. Функциональная цепочка «писатель — издатель — книготорговец — писатель» становится институтом культурного производства, секуляризируя печатное слово [27]. Литература становится важнейшим институтом поддержки и критики массовых идеологий и политической власти. В 1930-е годы окончательно сформировалась репертуарная политика Советской власти, направленная на рост тиражей и ограничение количества наименований. В 1934 году вышло в свет 3,5 тыс книг средним тиражом 12,9 тыс экз., а в 1953 году вышло 4,7 тыс книг средним тиражом 44,6 тыс. экз. [28]. Соответственно увеличивается средний объем книги. Е. Добренко пишет о замене точечного текстового производства линейным. Это присуще не только литературе, но и кинематографу, театру, науке, системе расселения. Иными словами, модернизация советского общества была связана с централизацией и этатизацией почти всех сфер общественной жизни, в том числе повседневных идеологий. Хотя книги издавались не для чтения, книга стала предметом активного массового спроса.
Принципиальную роль в воспроизводстве образца социальных наук играют техники рецепции печатного и устного текста, в том числе реферирование, заучивание, фрагментация, цитирование, обсуждение. Формирование массовых образцов в воспроизводстве социального знания находит выражение в феномене «звезд» философской и социологической науки. Образы «звезд» несут на себе выраженный отпечаток массово-коммуникативного стиля, где необходимое требование — эпатаж и экстравагантность. Вероятно, именно здесь есть резон искать структурные разграничения в социальных науках. Дисциплинарные границы не имеют значения в той степени, в какой сохраняется общий стиль. Сама философия рассыпается на стилистически несопоставимые фрагменты. Эта проблема может быть изучена только на косвенном материале — данных о тиражах и читательских запросах, «звездных именах», сетях цитирования, прецедентных текстах. Но наблюдать техники чтения и рецепции практически невозможно.
Статистическая картина социальных наук
В 2000 г. в России вышло в свет 59453 названия книг и брошюр [29]. Объем реального публикационного потока в стране может превышать эту цифру на 7-10% — таков оценочный уровень непредоставления обязательного экземпляра. По научной литературе «недостача» может быть оценена на уровне 3-5%. Так или иначе, объем книжного выпуска на 25% превысил уровень 1999 г. и достиг максимального за всю историю России уровня. Следует отметить, что сравнения статистических данных о книжном выпуске «раньше» и «теперь» не вполне корректны. В Советском Союзе отсутствовал книжный рынок в прямом смысле этого слова, а существовала система распределения литературы по линии библиотечных коллекторов и книготоргового объединения «Союзнига» — и в том, и в другом случае соображения о рентабельности изданий и выручке с продаж в расчет не принимались. Изолированность литературы от рынка представляла собой существенную предпосылку автономии «пишущих людей» от публичного успеха. Сегодня, в «посткоммунистической» России, выпуск научной литературы хотя и остается нерентабельным (за исключением отдельных изданий), но не является бесплатным. Во всяком случае, каждый автор и издатель отлично знают, сколько стоит книга и кто за нее платит. Поэтому нынешний поток научной литературы (годовой выпуск свыше 10 тыс. экз) более «настоящий», чем «советский», тоже десятитысячный. Сегодня в России сформировался структурно сбалансированный рынок изданий, где действует 15000 зарегистрированных издающих организаций. Около 90% суммарного тиража выпускается в Москве и Санкт-Петербурге, 30% объема выпуска составляет учебная литература. В отличие от книжного выпуска советского режима, где при однообразии издательского репертуара выпускались (в среднем) максимальные тиражи, в 2000 г. средний тираж составил 470 экз. (Приложение. Рис. 1, 2).
Что касается структуры публикационного потока по видам изданий и их тематике, то мы может оперировать лишь вторичными данными библиграфирования в соответствии с классификационными таблицами УДК и ГАСНТИ. Качество БО лишь во вторую очередь зависит от тщательности библиографической экспертизы. Главная проблема заключается в структурированности самого публикационного потока и релевантности тематических дескрипторов. Лексический корпус социальных и гуманитарных наук в 1990-е годы значительно обновился. Например, базовые для концептуального лексикона социальных наук дескрипторы «производственные отношения», «надстройка», «образ жизни» и т. п. уже могут быть квалифицированы как казус в распределении тематического репертуара. Но неизвестный ранее дескриптор «дискурс» имеет сегодня заметный удельный вес в совокупном тексте заглавий. Под вопрос может быть поставлена и релевантность базовых дисциплинарных различений в социальных и гуманитарных науках. По разделу «Философские науки» (сюда входит психология) в 2000 г. опубликовано 1540, по социологии — 576 книг и брошюр [30]. В «Летописи журнальных статей» в 2000 году зарегистрировано 103460 статей, в том числе по философским наукам и психологии около 1000 статей, столько же по социологии. За восемь месяцев 2001 года по данным пересчета «Летописи журнальных статей» по философским наукам и психологии опубликовано 732 статьи, а по социологии 1017 статей. Простая экстраполяция дает основания оценивать объемы «журнальных» публикаций в 2001 году на уровне 1100 по философским наукам и психологии и 1500 по социологии [31]. Нет убедительных версий объяснения столь значительной дифференциации объема книжного выпуска по философии и социологии и почти одинакового количества статей по этим дисциплинам. Механизм производства дисциплинарного знания предполагает примерно одинаковое соотношение публикаций «переднего края» и «монографического эшелона» (в социальных науках 1:10).
В российской философии конца 1990-х годов сложилась невообразимая ситуация: количество книг в полтора раза превышает количество статей. Если это действительно так, есть основания говорить о разрушении научной дисциплины и превращении ее в «философское чтиво» или жанр интеллектуальной литературы. По разделу философских наук стал библиографироваться значительный корпус книг и брошюр духовно-просветительского, душеспасительного и эзотерического содержания. В сложившейся тематической структуре описания публикационного потока не предусмотрено отчетливо определенного раздела, например, для изданного в 2000 г. исчерпывающего справочника по обращению с женщинами — он отнесен к рубрике «философия» что, в общем, не неправильно. Это же издание может быть отнесено и к социологии, и к культурологии. Многие издания по философии имеют парафилософский характер, хотя и описываются в разделе «Философские науки» [32]. Например, книга «Домашняя магия» отнесена к философии, а не к теологии, хотя в УДК имеется раздел религии и атеизма. Но для эзотерической литературы в классификации места нет. Так или иначе, распределение репертуара изменяется под давлением внешней среды — культурных запросов аудитории, которые не всегда соответствуют критериям «высокой науки». Происходит формирование своеобразной массовой философии и социологии для всех, и этот процесс имеет вполне объективные основания, не сводящиеся к порче нравов. Профессиональное сообщество идет навстречу запросам массового читателя и создает специфические образцы литературы, которые занимают ведущие места в рейтингах продаж. Ориентировочно, удельный вес духовно-просветительских, душеспасительных и эзотерических изданий в потоке литературы по социальным и гуманитарным наукам составляет 25%.
В тематическом репертуаре социальных наук происходит активное размывание границ. Возможно, что начало этого процесса не связано с посткоммунистическим периодом и советский обществоведческий канон бытовал только в заглавиях, а сегодня заглавия более соответствуют содержанию. Однако созданный в 1980-е годы в ИНИОН АН СССР корпус нормализованной лексики по социальным и гуманитарным наукам соответствовал нормам издательского и библиографического контроля, и авторы следовали явным или неявным шаблонам организации текста. Сегодня нормализованная лексика в данной области практически отсутствует. Все это является еще одним аргументом в пользу интенсивного изменения словаря социальных наук и их кажущегося растворения в потоке массовой литературы, где сформировались достаточно структурированные предпочтения. Это находит выражение в данных о продажах учебной литературы по социальным и гуманитарным наукам. Нет смысла обсуждать качество изданий, занимающих приоритетные позиции в рейтингах продаж (Приложение. Табл. 1); в каждой страте совокупного текста социальных и гуманитарных наук действуют внутренние функциональные критерии. По всей вероятности, происходит дивергенция зон производства знания, связанных с преемственностью и функциональным эшелонированием текста: нормативный образец публикаций переднего края отделяется от нормативного образца монографий, а нормативный образец монографий отделяется от нормативного образца учебной литературы, которая превращается в самостоятельный публикационный жанр, имеющий собственного читателя и получающий признание вне академических критериев. Это разделение может объясняться отсутствием развитой системы корпоративного контроля в науке, но, кажется, сама «социальная наука» (как эпистемическая химера) претерпевает процесс пролиферации, или разложения на автономные виды, каждый из которых занимает определенную экологическую нишу (ламинальную зону).
Рассмотрим разделы по философии, психологии, социологии и, в том числе раздел «Общественные науки в целом» куда относится обществоведческая литература универсального содержания. Здесь мы можем оперировать данными, опубликованными Российской книжной палатой. Статистика печати за 1999 г. дает 2236 названий по указанным разделам. Средний тираж книги составляет 4,8 тыс. экземпляров, 116 книг являются переизданиями. В 1999 г. переведено на русский язык 424 книги по философским наукам, социологии и психологии [33]. Это превышает количество переводов в 1990 г., по меньшей мере, в десять раз. В 1999 г. в России издано 14325 авторефератов диссертаций, выпускалось 3358 журналов (из них 2400 — в Москве). Всего по политической и социально-экономической тематике выпускалось 952 периодических и продолжающихся издания [34]. Опираясь на данные о видах изданий, невозможно установить, какие обществоведческие издания являются научными, а какие массовыми и популярными. Титульные реквизиты издания, как правило, отражают его реальный профиль с большой степенью приближения/удаления. Во всяком случае ясно, что реструктурирование социальных наук привело к усилению несоответствия титульных реквизитов и тематической и стилистической политики издания. Например, явно публицистические по содержанию и стилю материалы публикуются в «Вестнике Российской академии наук», а профессиональные социологические работы выходят в свет на страницах журнала популярного издания «Искусство кино». Под одной обложкой можно увидеть обсуждение экспериментального материала и политически актуальное эссе. Некоторые издания описываются на титульной полосе как журналы, хотя они могут считаться лишь продолжающимися изданиями. Все это свидетельствует об изменении нормативной системы научного текстообразования, своего рода аномии, где на фоне неразличенности правил текстового поведения формируются новые форматы письменной речи. Массовое чтение — специфический феномен. Он отчетливо конституирован в обществе с высоким уровнем культурной стратификации, а в переходных обществах может быть фактически массовым журнал «Успехи математических наук». Можно предположить, что сегодня границы между профессиональным и массовым чтением в социальных науках если не стерты, то связаны не столько с тематикой, сколько со стилистикой текста и, в конечном счете, представлениями издателя о своих задачах.
В динамике книжного потока произошло еще одно радикальное структурное изменение: количество массово-политических изданий снизилось в 1999 г. по сравнению с последним «коммунистическим» годом, 1990-м, в восемь раз. В 1999 г. в государственных библиографических указателях как массово-политические издания описаны всего 276 книг и брошюр [35]. Не исключено, что многие такого рода издания прошли по каталогам как политологические или социологические. Во всяком случае, массово-политическая литература или исчезла или трансформировалась во что-то другое. Здесь следует обратить внимание на такой вид публикаций как брошюры, функция которых, по всей вероятности, связана с воспроизводством маргинальных зон профессионального знания, или «полузнания», которое отличается и функционально, и содержательно от популяризации науки [36]. Данных о брошюрах статистика печати не выделяет, но, по оценке, их удельный вес снизился на порядок (вследствие перепрофилирования специализировавшегося на выпуске брошюр издательства «Знание»). Так или иначе, снижение выпуска массово-политических изданий значительно изменило распределение книжного потока по основному назначению. Из 12338 книг и брошюр по политической и социально-экономической тематике только 271 издание отнесено по своему назначению к массово-политическим. Наибольший удельный вес в этой тематике занимает научная и учебная литература (соответственно, по 3,5 тыс. названий) [37]. Другое радикальное изменение — резкое увеличение выпуска литературы по разделу «Религия, теология, атеизм», где атеизма как такового практически не наблюдается, зато сформировался массированный поток душеспасительного чтения [38].
В репертуарной политике 1990-х годов особое место занимают переводы. Крах культурного изоляционизма сразу же привел к «элитизации» переводной литературы по социальным наукам. Подготовка переводов стала маркером высокого профессионализма и, опять же, приобщенности к «Западу» как эталону интеллектуального достижения. В 1990-е годы были практически ликвидированы наиболее явные лакуны в репертуарах переводной литературы. В середине 1990-х годов абсолютным лидером переводных изданий был Фрейд, а в 2000 году политика переводов переоринтируется на профессионального читателя — повышается удельный вес качественно подготовленных академических изданий. В 2000 г. переведено с английского языка на русский 4056 книг и брошюр, с немецкого — 378, с французского — 399 [39]. Имеются выполненные Л.Д. Гудковым Б.В. Дубиным подсчеты репертуара переводной литературы в 1990-е годы [40] (Приложение. Табл.2, Табл.3).
Л.Д. Гудков и Б.В. Дубин приводят данные о переводах в первом полугодии 2001 года. В разделе «Философия, психология, социология» эзотерика занимает 36%, собственно переводы — 36%. В 1950 году научная книга составляла по названиям 7% всей выпущенной книгопродукции, в 1960-м году — 9,5%, в 1990-е годы этот уровень снизился [41] . Авторы указывают два типа переводных работ по гуманитарным наукам. Первый тип — заведомая научная «классика». Другой тип — «горячая» продукция считанных имен. В контексте этих процессов, как их составная часть, и возник «социальный заказ» на собственно культурологию [42] . Больше всего выпускается переводных книг по прикладным дисциплинам, преподаванию иностранных языков, компьютерным технологиям и т. п. По общественным и социальным наукам удельный вес переводов быстро возрастает от 20% в 1991 году до 36% в 1998 году. Основная масса переводной литературы — либо тривиальная эзотерика, астрология и поп-мистика, либо опять‑таки паранаука, а также сочинения православных авторов [43] .
«Характер переводческой работы во всех областях гуманитарного знания свидетельствует о подавлении самостоятельного интеллектуального процесса, — пишут Л.Д. Гудков и Б.В. Дубин. — Идет скорее адаптация чужого опыта к массовым запросам (что само по себе представляет очень важный цивилизационный процесс, аккультурацию культурной провинции), нежели инновационное и критическое осмысление современности. Российская культурная и интеллектуальная элита (в отличие от элит в странах Восточной и Центральной Европы 1990-х годов) оказывается в абсолютном большинстве случаев не способной ни рационализировать проблемы собственной истории (включая их моральное, антропологическое или социологическое осмысление), ни усвоить опыт развития и трансформации других обществ. Причины этой импотенции следует искать в функциях, которые выполняли «образованные» (люди с высшим образованием, «интеллигенция») в поддержании советской системы, а значит — и в особенностях структуры российского образованного сословия. В отличие от «элиты» в социологическом смысле слова (то есть группы, чей авторитет связан с наивысшими достижениями в своей профессиональной области и которая задает образцы действия, от носителей культуры и духа рационализации), «интеллигенция» функционировала лишь как обслуживающая тоталитарный режим бюрократия. Она обеспечивала систему в технологическом, кадровом и легитимационном плане, мобилизуя общественные ресурсы для поддержки патерналистской власти. Ничего другого она, как оказалось, делать не в состоянии» [44] . По всей вероятности, эта оценка ориентирована на «советскую модель» воспроизводства знания. В конце 1990-х годов наблюдаются значительные изменения в социальных науках [45] .
Лексико-семантический анализ тематических репертуаров
Чтобы установить лексические доминанты публикационного потока, необходимо создать текстовое «поле», в котором возможны препарирование и регистрация текстовых единиц (Приложение: Диаграмма 1). Здесь применимы две исследовательские стратегии. Первая заключается в выборочном обследовании полных текстов публикаций, вторая — в создании массива лексических репрезентантов (заглавий, рефератов, ключевых слов). Во втором случае мы должны постулировать релевантность языка заглавий основному авторскому тексту. Мы будем рассматривать автора в качестве компетентного эксперта, знающего, о чем он пишет и умеющего (и желающего) репрезентировать тему своего произведения в заглавии. Предположим, что лексический корпус заглавий не соответствует (или не вполне соответствует) основному тексту. Тогда предметом нашего исследования может считаться «заголовочная речь», в которой так или иначе представлены ключевые слова, базовые метафоры и «темы» социальных наук. В качестве текстового «поля» нами использованы заглавия публикаций по социологии, доступные в базе данных ИНИОН РАН в августе 2001 г. Методика анализа заключалась в формировании массива заглавий в 1997 и 2000 году и числовой обработке словоформ. Анализ совокупного текста заглавий (без учета персоналий) показывает, что 50% лексики публикационного массива 1997 года исчерпывается примерно 17 семантическими кластерами (см. Приложение 1). Большинство словоформ не несут функциональной терминологической нагрузки и являются элементами повседневной «умной» речи. Тем не менее, внутри этого лексического корпуса обнаруживается 3% словоформ, связанных с общенаучной терминологией (они сгруппированы в категорию «Научная речь»). Другие словоформы, маркирующие научную речь, распределены в общем частотном словаре. К ним относятся, например «адаптация», «функционирование», «мониторинг», «система» и др.
Отграничение социологической терминологии и общенаучной лексики от лексики общеупотребительного характера является пока нерешенной задачей. Частотно насыщенные лексические группы «социальное», «социальные изменения», «российское», «социологические», «общество», «личность» и т. п. не маркируют исследовательской темы и обозначают лишь предметную область текста. Отсюда может следовать рискованный вывод, что социологические публикации не содержат постановки и решения специфически научной проблемы и представляют собой преобразование «старой интеллигентской логосферы» [46] в новый дискурс, сохраняющий предшествующие структурные оппозиции. Возможно, здесь проявляется обусловленная доминированием фатического компонента («магии речи») десемантизация научной языковой системы. Однако возможно и другое объяснение: лексический корпус заглавий не отражает проблемной направленности публикаций, которая не соотносится с дисциплинарной терминологией. Тем не менее, 473 словоформы образуют достаточно определенный тематический ареал, который в значительной степени совпадает с публичным дискурсом. Предмет социологии можно, таким образом, обозначить как «социальные проблемы». 647 словоформ в публикациях 2000 года не вносят в этот словарь существенных изменений.
Рассматривая «социальные науки» как текст или коммуникационную среду, полагающую в себе функциональные цели сообщения, можно поставить под вопрос семиотические компоненты текста и различения, кажущиеся естественными. Собственно говоря, они кажутся естественными в той степени, в какой конституированы коллективными представлениями и мифологиями, например, заданы литературным каноном и системой текстового производства, а также борьбой за доминирование на интеллектуальных рынках. Такого рода проблематизация позволяет обнаружить эпифеноменальность, вторичность некоторых текстовых образцов, которые поддерживаются в первую очередь социальной организацией интеллектуального сообщества (в этом отношении они представляют собой концептуальные фантомы) и лишь во вторую очередь семантикой самого текста (темой). Некоторые текстовые образцы представляют собой тексты в текстах (семантические «матрешки») — они имеют вовсе не тот смысл, который явлен доверчивому наблюдателю в перформансе, и требуют расшифровки («Никакие они не декаденты, — говорил А.П. Чехов, — а просто жулики…»). Так обнаруживаются различения профессиональной и профанной речи, высокого и наивного письма, жанровые дифференциации, репертуарные политики и т. п. Во всяком случае, ни один текст не сводится к тому, чем он кажется.
Следует также поставить под сомнение различия как между «социальными науками» и публичной речью, так и между стандартными общественнонаучными дисциплинами: «социологией», «культурологией», «философией» и «политологией». Данные различения отчетливо артикулированы в системах библиографирования и государственных образовательных стандартах, предназначение которых заключается как раз в том, чтобы кодировать границы между дисциплинами и специализациями внутри дисциплин. Например, рубрикатор Автоматизированной информационной системы по общественным наукам предписывает различение А02 «Философия», А04 «Социология», А11 «Политология», но «Культурологии» здесь не предусмотрено. Зато «культурология» предусмотрена в образовательном стандарте и, соответственно, штатном расписании высших учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию. Внутри социологии проведено различение, например, между А042161 «Социальная организация и управление» и А042171 «Социальное планирование и прогнозирование» [47], тогда как в номенклатуре специальностей, предусмотренной «Положением о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий» установлены разграничения «22.00.01 — Теория методология и история социологии» и «22.00.03 — Социальная структура, социальные институты и процессы». Универсальная десятичная классификация по разделу «Общественные науки» дает совершенно иные различения. Такого рода тематические полисемии и связанные с ними затруднения не могут быть преодолены прояснением дисциплинарных границ, поскольку сами границы осмыслены только в рамках классификационной системы, и их соотнесение с «темами», представленными в публикационном потоке, представляет собой принципиально неразрешимую задачу, аналогичную задаче аутентичного картографирования.
Классификационные системы не могут быть истинными или ложными, а могут быть удобными или неудобными. Поэтому вопрос о тематическом различии философии, социологии, политологии, культурологии и других «социальных наук» становится бессмысленным, как только мы выходим за пределы классификационных описаний и пытаемся установить различия «по реальному содержанию». Само «реальное содержание» представляет собой совокупность текстов, каждый из которых может быть прочитан как автономный. Было бы упрощением утверждать, что значимость классификационных языков, формирующих тематические репертуары, ниже значимости других текстовых сегментов, например, наименований журналов, заголовочной речи, авторства, композиционного оформления произведения, шрифтовой графики, дизайна полосы, аргументативного стиля, цитатного поведения, доминирующих речевых действий, фигуративности/номинативности речи и т.п. Какой бы сегмент ни был определен в качестве значимого, его семантика будет задана внутренними различениями. Поэтому значимость описаний формируется не «реальным содержанием» публикационного потока, а формальными шаблонами текстообразования. Классификационные шаблоны библиографирования, может быть, не более релевантны для объяснения тематических различий между «философией», «социологией», «политологией» и «культурологией», чем различия в дисциплинарной организации науки, текст которой бытует, например, в форме штатных расписаний профессорско-преподавательского состава или табличек с надписью «Заведующий кафедрой общей социологии». Расшифровка такого рода институциональных шаблонов предполагает обращение к истории научных институтов и репертуарных политик. Здесь многое проясняется. Например, концептуальный фантом «марксизм-ленинизм» наряду с «научным коммунизмом», «диалектическим материализмом» и «историческим материализмом» исчезли в 1993 году из университетских программ в считанные месяцы. Возникли кафедры философии. Существовавшая с 1986 года «социология» быстро заняла место в текстовом сегменте дверных табличек, равно как и возникшие в середине 1990-х годов «культурология» и «политология». Этот процесс смены дверных табличек в университетах и исследовательских институтах, а также изменения формулировок в штатных расписаниях представляет собой «крах советского марксизма» и может быть изучен на материале доступных текстовых массивов. Текст учебников и учебных пособий реструктурировался в течение десятилетия, и эти изменения могут быть прослежены без особых технических затруднений.
Практически недоступен для изучения массив устной речи преподавателей общественных наук в 1990-е годы, однако можно предположить, что и в данном сегменте «крах советского марксизма» проходил с большей инерционностью, поскольку персональный состав обществоведов практически не изменился. Все это дает основания полагать, что «исследовательские программы» в социальных науках в меньшей степени зависят от содержания сообщения («темы»), чем от коммуникативного задания научной речи. Это обусловлено общей тенденцией десемантизации языка социальных наук и разрушения словаря марксизма, сформировавшегося к началу 1950-х годов. С этого времени наблюдалось интенсивное реформирование концептосферы социальных наук, связанное с поиском новых базовых метафор. Этот процесс сопровождался и непрерывным конфликтом в интеллектуальном сообществе, связанным с разрушением норм текстообразования и поиском «авторитетных» критериев воспризнания.
Очевидно, что «тема» не создается наблюдаемым материалом, наоборот, наблюдаемый материал и опыт являются результатом применения процедур дистанцирования и регламентов экспертизы. Дистанцированность от живого опыта, отрицание непосредственности материала требуют институциональных (внеличностных) средств работы с материалом, прежде всего авторитета и нормы доверия. Одновременно отчуждение от материала в гуманитарных науках содержит в себе источник постоянно возобновляющегося кризиса. Некоторый материал противится любым формам авторитета и находится до времени вне институциональных регламентов. Например, «секс» как тема был запрещенным материалом, поскольку в силу презумпции нераздельности исследования и материала, а также включенности исследователя в объект предполагается, что сексуальность и связанная с ней распущенность свойственны самому рассуждению о сексе. Этот трансфер в полной мере относится исключительно к гуманитарии, но, например, гинеколог в силу профессиональной нормы отделен от наблюдаемого предмета почти непроницаемой границей фрейма [48]. В некотором отношении материал должен быть преодолен в научном факте.
Профессионализация предполагает формирование специфического этоса и ценностно-нормативной системы, поддерживаемой корпоративными правилами и внутренней экспертизой. Так, профессиональный «обществовед», в отличие от любителя, включен в систему научного производства и соответствующие отношения с патронами, клиентами, издателями, критиками, читателями; ему знакомы табели о рангах, критерии успеха и вертикальной мобильности, схемы распознавания своих и чужих. Он может быть профессионалом, но жить за счет вненаучных источников. Поэтому профессионализация связана не столько с трудом как источником дохода, сколько со специфическими нормами внутреннего социального контроля, а также обособлением социального действия от нерелевантного задания. Чтобы получить воспризнание на рынке идей, его профессиональные участники должны отграничить собственную нормативную сферу от других, нерелевантных, сфер и установить с ними функциональную коммуникацию. Например, действие врача ориентировано не на помощь больному, а на применение правильных процедур диагностики и лечения. Равным образом профессионализация научной работы заключается в правильном применении измерительных, аналитических и риторических средств и непосредственно зависит от общественнонаучных «предприятий», отличных от светских кружков и салонов тем, что доминантной формой коммуникации в них является регламентированный безличный обмен научного товара на деньги и соответствующие формы речи, по преимуществу «неумной» и скучной.
Если так, то целесообразно присмотреться к феномену «умной речи» как формы социальной репрезентации, имеющей, как кажется, непосредственное отношение к языку социальных наук. «Заумь была всегда, но только в наше время она стала литературным фактом», — писал в 20-е годы Ю.Н. Тынянов [49]. «Умная речь» отличается от массовой словесности специфическими речевыми действиями, связанными с аргументацией, рассуждением, убеждением и обращением к «общественному», одновременно оставаясь сегментом массовой речи. «Общественность» может быть артикулирована безличными конструкциями «Говорят, что..», «Все они такие…», «Мы, россияне, требуем…». Однако во всех случаях работает убеждающая речь, которая и создает публичное знание. В этом отношении «умная речь» подобна произведению, где можно установить интертекстуальные связи — апелляцию к другим текстам, продиктованных не столько стремлением к доказательности и информативности, сколько любознательностью и тягой к новому [50]. Эта тяга действительно обновляет текст, нарушая границы между «ценностно значимым» и «профанным», но, стремясь называть вещи их собственными именами, то есть к непосредственному знанию, несет в себе угрозу норме и «вкусу». Так или иначе, «умная речь» не всегда означает умную речь, но всегда содержит апелляцию к некоторой «библиотеке»: газете, авторитетному мнению, художественной литературе, жизненному опыту, и, непременно к философии как наиболее удобной интеллектуальной среде, где можно говорить о «бытии самом по себе» [51]. В некотором смысле «умная речь» представляет собой бытование пайдейи в публичном речевом пространстве («общественности») и основана на необходимости обосновывать действие идеальными планами, словесными легитимациями и консенсусом. «Умная речь» бытует как раз не в «умных местах» (например, научных лабораториях), а в маргинальных зонах — там, где возникает массовость коммуникации. Не исключено, что «социально-научная» речь в большей степени подчинена «умной», чем научной речи. Транспозиция тематики и стилистики «низких» пластов речи в «высокие» пласты возможна только при условии существования «лифтов» или «переходов», обеспечивающих доступность тем и выражающих их языковых средств. Систему таких мостов предоставляет «массовая словесность», в которую погружены социальные науки. Поэтому когда говорят о «выходе из коммунизма», следует учитывать не столько изменения тематики, сколько стилистики «социальной» речи. Именно стилистика сохраняет легитимационные образцы коммунистического дискурса, например, сформированную в прозе 20-30- годов (особенно у Зощенко и Платонова) и реанимированную в прозе «молодых» писателей 60-х годов парцелляцию письменной речи [52]. Связь между социальной структурой и культурой (типом убеждающей речи [53]) представляет собой порождение образцов власти, которая возникает из ткани повседневности.
Авторский корпус социальных наук
Важнейшее изменение в формировании репертуаров изданий по социальным наукам в 1990-е годы обусловлено фактической ликвидацией института «тематических планов» и квот на издание научных работ, которые должны были проходить многоэтапную экспертизу и рецензирование. Здесь действовал механизм статусно-распределительной системы — рационирование ресурса и планового снабжения читательской аудитории «научной продукцией». Государственная программа, называвшаяся «Пути удовлетворения потребностей трудящихся в произведениях печати» с подразделом по научной литературе действовала вплоть до начала 1990-х годов. Соответственно, авторский корпус «советской эпохи» был стратифицирован в соответствии с должностными позициями в научных учреждениях: руководители подразделений и старшие научные сотрудники имели фактическое преимущество при комплектовании тематических планов. Такое распределение издательских ресурсов создавало выраженную несопоставимость официальных статусных измерений с измерениями актуальности и научного престижа. Такая несопоставимость вызывала перманентный позиционный конфликт между институциональным и «человеческим» компонентами науки и создавала два непересекающихся публикационных пространства: «по истине» и «по мнению». Например, одним из наиболее публикуемых авторов 1970-х был В.Г. Афанасьев, автор монографии «Научное управление обществом» и самого массового учебника «Основы философских знаний». Ю.А. Левада, автор «Лекций по социологии» был одним из «непубликуемых» авторов. Но сравнивать значимость этих авторов, равно как и многих других, невозможно, потому что они выступали на разных сценах. Ни тиражи, ни полиграфическое качество изданий не воспринимались как маркер их реальной ценности. «Реальную» ценность представляли, например, тартуские препринты, которые передавались из рук в руки. К сожалению, феномен внерыночного обращения литературы в научном сообществе советского периода изучить невозможно [54].
В середине 1990-х годов сформировался рынок научной и учебной литературы, освоение которого зависит прежде всего от индивидуальной активности автора, а не его позиции в академической иерархии. Разумеется, «влиятельная» персоналия имеет больше возможностей для продвижения на рынке публикаций, но и в этом случае она должна мобилизовать ресурсы. Частотный анализ персоналий по социальным наукам в начале 1990-х годов слишком трудоемок и «длинные» сравнения нам недоступны. Однако сопоставление данных 1997 и 2000 гг. позволяет установить «публикационную устойчивость» списков. Предположение о зависимости или независимости публикационной активности авторов от их статусов в академическом сообществе не может быть проверено. Первые десять мест по степени публикационной активности принадлежат авторам, занимавшим до выхода своих основных публикаций влиятельные академические позиций и, скорее всего, их рейтинги — результат мобилизации скорее административного, чем интеллектуального ресурса (Приложение. Табл. 4). Из десяти авторов — все доктора наук, один академик, три руководителя института, один директор правительственного научного фонда. Из «одиночек-пассионариев» в списке 1997 г. фигурируют, пожалуй, только культуролог Ерасов и социолог Кравченко, а в 2000 г. Кравченко и Добреньков образовали творческий союз, соединив тем самым пассионарность с административным ресурсом. Занимающий третье место Волков — влиятельный руководитель науки из Ростовского университета, а Питирим Сорокин попал в « Top 10» случайно, вследствие тщательной библиографической росписи нескольких сборников статей, посвященных юбилею великого российского социолога. Несомненно, в 2001 году Сорокин в списке наиболее часто публикующихся российских социологов не удержится. В 2000 году наметилась интересная тенденция к уплотнению списка, возможно, связанная с резким повышением производительности письма и объема выпуска авторами-рекордсменами.
Если считать полноту комплектования и систематизации библиографических баз данных удовлетворительной, то в 2000 году можно наблюдать тенденцию к «уплотнению» состава массового чтения по социальным наукам: первые десять «звезд» российской социологии занимают уже 3,34% в авторском корпусе, тогда как три года назад их удельный вес составлял 1,9%. Впрочем, этот вывод ненадежен, поскольку по непонятным причинам объем общего массива «социологических» публикаций 2000 г. в базе данных меньше, чем объем массива 1997 г. Примечательно, что удельный вес лидера 2000 г. Кравченко в совокупном списке персоналий почти в четыре раза выше, чем удельный вес лидера 1997 г. Иванова. И здесь имеется возможность недоразумения, связанная с тем, что при числовом анализе не были учтены инициалы авторов, тем самым самый высокий рейтинг может принадлежать по крайней мере четырем российским обществоведам, носящим фамилию «Кравченко».
Формирование «посткоммунистического дискурса»
Посткоммунистическая эпоха и соответствующие текстовые образцы вполне отчетливо сформировались в 1950-е годы. «Гласность» и крах политических институтов режима в начале 90-х годов не привнесли в совокупный текст социальных наук никаких принципиально новых элементов, поскольку и топика, и стилистика и прагматика текстообразования были заданы архивом, сформированным вокруг метафоры «восстановления ленинских принципов» и «социализма с человеческим лицом». Эта метафора разрабатывалась не только в диссидентской литературе, но, более последовательно, в языке власти, открывавшем дискурсивное пространство для узнаваемого всеми «нового». «Оттепель» была знаменательна прежде всего тем, что сделала явной контроверзу действительного идеала коммунистической «мирской харизмы» и неразумных и недействительных социальных порядков. «Шестидесятники» были, вероятно, последними убежденными коммунистами в обществе, уже объективно изжившем этот идеал, и один из последних генеральных секретарей коммунистической партии имел все основания сказать: «Мы еще не знаем общества, в котором живем». Требовались новые метафоры власти. Общественная атмосфера конца 1980-х годов была пронизана ощущением перемен. На улице Горького, главной улице Москвы, висел транспарант со словами М.С. Горбачева: «Перемены неизбежны. Они коснутся каждого». Но эти слова, как и все говорившееся, не выходили за рамки метафорического ряда, частью которого была сама «гласность», поэтому никто не предполагал, что перемены коснутся и ЦК КПСС. «Гласность» была сопряжена с обновлением словаря и «поумнением» речи [55]. Обновление массового политического узуса выразилось в необычных иностранных заимствованиях «легитимация», «консенсус», «приватизация», «ваучер» [56]. Помимо нового словаря возник и необъяснимый порыв к спонтанной публичной речи. В концептуализме советский «новояз» стал материалом эстетического созерцания и развертывания иронии как мыслительной позиции отстраненного интеллектуала. Иконоборчество — само по себе серьезное дело — становится развлекательным жанром, создавая контур неучастия в преобразовании языка [57]. Обществоведческая литература периода «гласности» выработала специфические техники иронического неучастия в ей же осуществляемой радикальной трансформации публичного дискурса. «Острое слово», входящее в библиотеку массового сознания в качестве прецедентного текста, сильно прежде всего своим подтекстом, эллипсисом, недосказанностью известного [58]. Так, одна из знаменитых публикаций «Нового мира» имела великолепное заглавие «Можно ли быть немножко беременной?», и всем было ясно, что речь идет о невозможности «социалистических рыночных отношений». А не менее знаменитая «реакционная» статья называлась «Не могу поступиться принципами» и вызвала возмущение «прорабов перестройки» прежде всего отсутствием подлинного подтекста.
Специфическим феноменом «гласности» и определенного сегмента социальных наук начала 90-х годов стала эмфатическая речь — необходимый элемент ереси на стадии ее отделения от догмы. Коммунистическая риторика почти всегда (за исключением стиля «старого партийца» периода сталинизма, который был замечательно обрисован В.В. Набоковым) максимально мобилизовала эмфазу, где акцентируется иной, «подлинный» смысл слов [59]. В этом отношении «гласность» соответствовала образцу, заданному трибунами революции. Для обновления словаря социальных наук это означало, что «подлинная философия марксизма» скрыта за казенными идеологическими формулами, она трудна для понимания не потому, что требует прилежания и учения, а потому, что здесь требуются прочтение подлинного текста и состояние посвященности в скрытую от профанов тайну учения [60]. Это феномен предполагает в качестве средства трансляции знания личное и сокровенное общение членов секты, своего рода «речедеятельность», результатом которой являлась десемантизация социальной теории и достижение состояния приобщенности к новой финальной истине. Имеются вполне отчетливые параллели между оккультными радениями интеллектуальной богемы начала ХХ века [61] и поиском новых форм философствования в советском марксизме 60‑70 годов. Формой трансляции обновленного знания стали различного вида «дружбы» или круги общения. По свидетельству Л.М. Алексеевой, количество участников таких кругов достигало нескольких десятков человек и «кухня» стала своеобразным институтом интеллектуальной коммуникации [62].
Догма превращается в ересь тогда, когда массовое сознание стремится прочувствовать (а не осмыслить) идею [63]. Поэтому стремление к искренности [64] было самым разрушительным и гибельным для официальной идеологии мотивом «оттепели», который она уже не могла не поддерживать в рамках мифа о «партийности». В то же время границы между партийностью и искренностью были обозначены вполне отчетливо, например, в перифразе «Новое против старого», в которой было невозможно усомниться вследствие доминирования речевого стандарта «борьбы с пережитками прошлого». Новая идея и новый, эмфатический, способ ее трансляции востребовали к жизни и новые формы интеллектуального общения. Как во времена раннепротестантских движений, гласность для своего круга, публичное покаяние и открытость личной жизни [65] стали основными требованиями посвящения в обновленный текст и новую жизнь. Внутренняя жизнь, в отличие от жизни общественной, трактовалась как переживание. Все это развертывалось на фоне культа романтического героя, созданного поэзией, театральным авангардом, авторской песней и идеалом светлого будущего (без иронии) [66]. В итоге граница между общественным и личным артикулировалась как противостояние черного и белого, лживого и искреннего в устройстве жизни.
Коммунистический идеал презрения к личному благосостоянию и «мещанству» противостоял казенной стилистике партийных постановлений, которая парадоксально воспроизводилась теми же, кто создавал новый язык социальных наук. Фактически же тексты власти, замкнутые специфической стилистикой передовых статей, содержали отчетливые аллюзии на обновленную речь и требовали соответствующей селекции и соответствующего прочтения. Важнейшую задачу истолкования смысла, заложенного в текстах партии, выполняли как раз не «партийцы», а гуманитарии, располагающие необходимыми — неофициальными — экзегезами и техниками обнаружения подтекста [67]. Аналогичным образом в массовом интеллигентском сознании форсировалась значимость «низовых» текстов [68]. Тем самым «высокая партийная речь» включалась в не признающий границ между высоким и низким жанрами умный разговор, растворялась в нем и становилась элементом культивируемыми тогда интеллектуалами карнавальной культуры и «телесного низа» (М.М. Бахтин [69]). У подножия неофициальности всегда живут непечатные «тексты свободы»: ругательства, неприличные частушки, сексуальные анекдоты, «стенная» графика [70], создающие противовес видимой серьезности «высокой культуры».
«Марксизм» как базовая метафора подлежал непременному декодированию и внутри него обнаруживались фундаментальные идеи, лишь извне казавшиеся чужими. М.О. Чудакова замечает, что в середине 1930-х годов в восприятии философски образованных сограждан Сталин имел значение гегелевского «абсолютного духа» [71]. Бездонность марксистской метафоры явлена, например, в феномене «лосевского марксизма», который нимало не похож на марксизм доцента научного коммунизма. Основой мировоззренческого стиля Лосева была вера в абсолютную материальную действительность, его мысль была одержима императивом жесткого, неумолимого единства [72]. Равным образом, исповедание пролетариата, вероятно, представлялось ему абсолютным ликом бытия. Как бы то ни было, Лосев — враг свободной науки, ненавистник либерализма и капитализма, идейный антисемит (чтобы не сказать антисемит) [73]. Жесткая связь религии, культуры и социального строя — таков был лосевский тоталитаризм. Он был убежден, что миф о всемогуществе знания имеет всецело буржуазное происхождение и порождается протестантским индивидуализмом. По Лосеву, «протестантско-возрожденческий иудаизм умеет объединять истерию и формализм, неврастению и римское право объединять с разбойничеством, кровавым сладострастием и сатанизмом при помощи холодного и сухого блуда политико-экономических теорий» [74]. Аналогичным образом он хорошо понимал иудаистическое происхождение коммунистической идеологии и, всецело подчиняясь «императиву неумолимого единства» (С.С. Аверинцев), был совершенно последователен в своем отношении к сталинскому режиму и диалектическому материализму. Веря в единое, он считал, что этому строю мысли подобает и соответствующее социальное устройство, равнозначное афинскому рабовладению.
Сакральный текст всегда остается притчей, и его замысел не может быть представлен в прозрачной форме. Поэтому базовый словарь социальных наук основывался на метафорическом переходе, принудительно остановленном в своем развертывании. Тексты власти принимают специфическую жанрово-стилистическую форму передовых статей и других текстах, образующих область истолкования тайны, заложенной в идеологическом каноне. Социальные науки выполняли важнейшую задачу истолкования смысла, который содержится в текстах партии. Смысл данного действия заключается в том, чтобы обеспечить включенность интеллектуалов в контур взаимодействия с центральной властью [75]. Техника создания текста власти включала многоэтапное кодирование того, чтобы должно было бы быть сказано, но не может быть сказано открыто. Это был в полном смысле дискурс, поскольку внешняя речь содержала в себе внутренний, основной пласт, подлежащий истолкованию. В этом отношении система пропаганды была не пустым и иррациональным институтом, а необходимым элементом воспроизводства идеологии, поскольку смысл данного речевого действия открывался только в его истолковании. Здесь не было ничего такого, в чем не открывался таинственный и глубокий смысл. Образцом такого рода сакрального текста стали опубликованные в конце 30-х годов «Философские тетради» В.И. Ленина, где заметки на полях «Истории философии» Фейербаха или гегелевской «Науки логики» стали важнейшими прецедентными текстами для реформирования канонических определений диамата и истмата. Например, ленинская сентенция «Сознание не только отражает мир, но и творит его», опровергающая материалистическое решение основного вопроса философии, послужила обоснованием для советской версии постпозитивистской программы в теории познания. Ясные и отчетливые истины этого словаря, хотя и были всем известны, но не могли быть написаны и произнесены вслух. Состояние непроясненности языка социальных наук поддерживало их стабильность. Идеологический словарь, стилистика и риторика сохранялись до тех пор, пока не задавались вопросы «Что такое развитой социализм?», «Что такое плюрализм мнений?», «Что такое новая историческая общность людей?» и т. п. Экзегеза коммунистического и посткоммунистического дискурса разрушилась вместе с тайной, которой на самом деле не было, поскольку рядом с «официальным» текстом существовал и воспроизводился текст неофициальный.
Бытование идеи в различных текстовых средах обнаруживает в ней содержания, не явленные в чистом виде. В этом отношении справедливо суждение об искажении идеи при ее рецепции в инородной текстовой среде. Проблема, однако, заключается не в осуждении искажения, а как раз наоборот: в понимании искажения идеи как мутации — единственно возможной формы ее существования в данной идейной среде. Метафора эволюционной эпистемологии позволяет интерпретировать жизнь текста как жизнь организма. Некоторые текстовые «организмы» задыхаются и гибнут при рецепции в инородную среду, другие мутируют, третьи — получают все возможности для своего развития. Если так, то аутентичный марксизм создан не столько его великим автором и интеллектуалами-интерпретаторами, сколько неискушенной аудиторией. Б.Н. Чичерин объяснял популярность марксизма человеческой глупостью. То, что религия — «предрассудок Карла Маркса и народный самогон» (А. Платонов), было великолепной конструкцией qui pro quo для приспособления прецедентного определения религии в «Ведении к критике гегелевской философии права» к народной речи. Парадоксальность ситуации заключается в том, что изощренный, гегелевской пробы, марксистский интеллектуализм предрасположен к профанному бытованию и превращению в бездумную революционную «силу», то есть «олитературенное» насилие. Для этого текст аутентичного марксизма уже должен содержать в себе элементы релевантной концептосферы — заготовки революционной эмфатической речи. Левогегельянское определение идеологии как превращенной формы знания вполне применимо и к пониманию превращений советского марксизма в различных текстовых средах. Примечательна и подмеченная Б. Гройсом особенность мыслительной позиции художника социалистического реализма: производятся не «вещи» (текстовые «вещи»), реагирующие на потребности аудитории, а именно идеологии, исключающие какой-либо свободный выбор аудитории и поэтому чувствующие себя свободно и независимо по отношению к потенциальному потребителю [76]. В таких условиях и народная речь, и политическая демагогия, и официальный язык становятся проводником элитарных идей. В этом отношении элита является свободной от внешнего потребителя, и «социальный дискурс» можно считать элитарным независимо от должностного или материального положения писателя. Сочетание «серьезности» и «доступности» социального дискурса достигается при ориентации социального дискурса на преодоление границ между профанным и сакральным. «Советский художник не может противопоставить себя власти как чему-то для него внешнему и безразличному, как для западного художника выступает рынок», — пишет Б. Гройс. — В советских правителях, стремящихся переделать мир или хотя бы собственную страну по единому художественному плану, художник неизбежно опознает свое alter ego, неизбежно обнаруживает внутреннее сообщничество с тем, что его гнетет, и не может отрицать общих корней своего одушевления и бездушия власти». Анализ эволюции интеллектуального проекта не сводится к описанию постановлений, заседаний, арестов — все это лишь «церемониал советского централизованного бюрократического аппарата, на деле являющегося лишь фасадом, за которым скрывается действие реальных общественных процессов, — хотя этот аппарат и претендует на определяющее значение своих решений для этих процессов» [77].
Риторика обновления была в значительной степени основана на парадоксе и оксюмороне, легко преодолевавших бинарные оппозиции советской языковой системы, смехе, пародировании прецедентных текстов и рецитаций [78]. Одновременно создавались и новые бинарные схемы (Ю.М. Лотман), до времени остававшиеся неартикулированными. Например, сентенции «Материя — объективная реальность, данная нам в ощущение Богом», «Дефицит — это объективная реальность, данная не нам в ощущение» могли мгновенно разрушить серьезность философского наследия марксизма. Равным образом, мифологема о «мирном соревновании двух систем как форме классовой борьбы» обнаружила свою вымышленность и была разрушена сериями анекдотов о русских и американцах. Смех и парадокс, внедренные в социальный дискурс, разрушили легитимационные устои советского государственного устройства.
Работа по легитимации новых форм знания начинается, как правило, с опровержения ересей и объективации идейных «врагов». Когда доктрина утверждается в качестве истинной, образ врага продолжает воспроизводиться в качестве необходимого средства сохранения идеологии. Как правило доктрина приобретает вид «теории заговора» [79]. Этот модус производства дискурса (сакральных текстов, закона, исторического мифа) связан преимущественно со стихотворной речью, которая в античной традиции считалась боговдохновенной. Платон в «Федре» представляет поэзию как разновидность священного безумия. Впоследствии противопоставление дионисийского вдохновения искусному ремесленничеству стало одной из смысловых доминант романтической традиции в европейской культуре. Отличие интеллектуала от «техника» и «ремесленника» вытекает, собственно говоря, из аллюзии на априорную истинность неистовых, вдохновенных суждений [80], несовместимых с обоснованием и техниками аргументации. В этом отношении имперский дискурс поэтичен по преимуществу и разрушается при любой попытке прочтения с помощью аргументации. Система референций замкнута здесь самим текстом, который подлежит уяснению и «более глубокому» эзотерическому истолкованию. В этом отношении часто встречающееся в советской философской литературе 1950-х годов указание на «талмудизм и начетничество» обнаруживает затруднение в новом прочтении и реформировании канонического текста в изменившихся социальных и политических обстоятельствах.
Тексты повышенной значимости, способствующие сплочению общества, требуют особой техники чтения и интерпретации — они подлежат частому и точному повторению. В традиционных обществах это преимущественно тексты сакрального характера, а в современных обществах такие тексты связаны с производством идеологий, образующих публичный дискурс. М.Л. Гаспаров показал, что в эпоху эллинизма поэзия окончательно оформилась как область остановившейся традиционности и культа школьных авторов, а проза – как область отзывчивого на современность новаторства [81]. В данном случае речь идет о поэтическом предназначении «социальных ученых». Конституирование социального дискурса как системы канонических образцов письменной речи, присущих имперской форме социальной солидарности [82], отчетливо проявилось в конце 20-х годов и завершилось кодификацией советского марксизма в конце 1930-х годов. Эталон философствования был представлен прежде всего «Кратким курсом истории ВКП(б)», формулировки которого тысячи раз воспроизводились в научной, художественной и пропагандистской литературе. В этот же период институциализировались образцы художественной прозы и поэзии (Пушкин, Чернышевский, Горький, Маяковский), музыки (Чайковский, Римский-Корсаков, Глинка), театра, изобразительного искусства, а также стандарты «культурности» труда и повседневной жизни.
Общей смысловой доминантой организации советского социального дискурса было различение «высокого» и «низкого», различения, которому соответствовали наряду с поэзией и крупной прозой второстепенные, не притязающие на литературность жанры, скажем, переводы, комментарии, газетная журналистика. Попав в немилость, писатели наказывались и были вынуждены «перебиваться переводами». Иерархической организации дискурса соответствует детализированная статусная стратификация культурной элиты. Эта стратификация находила выражение прежде всего в четкой иерархии «звезд», привилегиях в нормах потребления, которые делали жизнь философов и поэтов сравнительно благополучной, но, кажется, главное ее предназначение заключалось в воссоздании сакрального института «вдохновенного авторства», определявшего критерии высокой литературности. Таким сакральными авторами были Пушкин, Гегель, Маркс, Ленин.
Советская философская проза в полной мере наследовала пророчески-темный стиль, приближавший ее к поэзии, иногда надрывный, но чаще восторженный. Философом, интеллектуалом по преимуществу считался тот, кто имел дар охватить разумом мироздание и отождествиться с истиной [83]. Как и во времена стоиков, философ должен был быть знатоком всего на свете, в том числе и поэтом. Поэтические опыты философов и секретарей Коммунистической партии не ограничивались гимнами и включали образцы лирического стихосложения. В той степени, в какой в публичный дискурс включалась социально-научная рационализированная проза, она также перенимала неистовство поэзии. Вероятно, возникновение марризма, лысенковщины и других паранаучных сект, ориентированных на суггестивное потрясение аудитории, связано с принятием вдохновенной эзотерической речи. В качестве необходимого фона легитимационного кризиса выступают интенсивное общение с массой: праздники, фестивали, шествия, манифестации, митинги. Власть ищет в них общественной поддержки, а публицисты — непосредственный контакт с аудиторией. Переключение социальной реальности из режима повседневных забот в режим массового спектакля служит важным средством трансфера лояльности интеллектуалов. Превращение обычной жизни — дела рутинного и чаще всего монотонного — в увлекательную театрализованную игру ломает привычный общественный порядок, делает возможным то, что еще вчера было подчинено табу.
«Социальные ученые», интеллектуалы и власть
В предисловии к «Персидским письмам» Монтескье П. Валери говорит о «фикциях», конституирующих социальные порядки и называет их «действенным присутствием вещей отсутствующих» [84]. Валери рассуждает о поиске человеком приятной эпохи, где он мог бы пользоваться наибольшей свободой и наибольшей поддержкой – как правило, он находит ее в начале конца той или иной социальной системы. Функция и призвание интеллектуалов заключаются в производстве «фикций», создающих общество как социальную солидарность. Для выполнения этого призвания «свободно парящие интеллектуалы» (freischwebende Intelligenz) должны обладать специфической мыслительной позицией реляционирования — способностью занимать такое положение в системе производства образцов культуры, которое позволяет им соотносить несопоставимые ценности и интересы.
Очевидно, мыслительная позиция и роль интеллектуалов (интеллигенции), в образовании и преобразовании людей и социальных порядков не может быть объяснена их социальным статусом. Требуется проблематизация их культурных задач в реформировании общества и их включенности в трансформацию власти. Эта проблема может быть описана «трансфером лояльности интеллектуалов» (transfer of allegiances of intellectuals [85]) — изменениями в топике и технике легитимационной речи. Интеллектуалы и публицисты артикулируют и обеспечивают трансмиссию «социального мифа»: идеологий, норм морали и права, картин прошлого и будущего. Они устанавливают критерии селекции справедливого и несправедливого, достойного и недостойного, определяют представления о жизненном успехе и благосостоянии, сакральном и профанном. Любая тирания уверенно смотрит в будущее, если пользуется поддержкой интеллектуалов, использующих для этого образование, массовую информацию, религию и науку. Но если альянс власти и интеллектуалов нарушен, происходит кризис легитимности и реформирование системы.
Трансфер лояльности интеллектуалов заключается в том, что социальный слой, призванный воспроизводить «картину мира», артикулировать социальный порядок и осуществлять его трансмиссию будущим поколениям, заражается духом революционной неустроенности, начинает сочувствовать угнетенным и теряет веру в идеалы власти. Л. Эдвардс называет этих людей «публицистами», имея в виду не столько представителей литературного жанра, сколько тех, кто выражает волю народа. Писатели, социологи, журналисты, учителя, священники — все, чьей обязанностью является концептуализация социального порядка, в том числе моральных норм, ценностей и стандартов поведения, начинают испытывать чувство беспокойства. Это чувство становится возможным при условии достаточной свободы в выражении оппозиционных идей и слабости репрессивного аппарата. Формируются новые ориентиры жизненного успеха, направленные не на поддержание, а на разрушение институциональных порядков. «Люди становятся наиболее революционными и наиболее непримиримыми к угнетению, когда реальное угнетение сходит на нет, — замечает Л.Эдвардс. — Наоборот, революции не происходят, когда угнетенные классы достигают предела нищеты» [86].
Причины социальных трансформаций обычно усматриваются в противостоянии власти и народа [87]. Принято ассоциировать «тоталитарную власть» с силами зла и репрессии, а «народ», по определению, воплощает начала добродетели и справедливости. Вероятно, эта точка зрения основана на мистификации «власти» и «народа» и не объясняет кризисы легитимности, которые возникают внутри институтов власти и лишь затем мобилизуют «народные» социальные движения [88]. Не исключено, что кризис легитимности коммунистического и посткоммунистического режимов в России связан преимущественно с позиционным конфликтом в дискурсивном сообществе (cummunity of discourse [89]), «новом классе», который был классом пришедших к власти людей «литературного сословия» (ordo literatorum), идеократии [90], и участвовал в конституировании социальных порядков до конца 1980-х годов, когда альянс власти и интеллектуалов был разрушен. Конец идеократии привел к принципиальному разграничению пространства власти и интеллектуального дискурса. Советская интеллигенция в большинстве случаев стремилась в партию, но партия имела основания сторониться экстатического дионисийского начала в интеллигентском дискурсе, вполне резонно предполагая в нем разрушительные тенденции [91]. Оставшаяся от сталинского партийного аппарата дисциплина «ордена», проводила жесткую границу между властью и интеллектуалами, и данной обстоятельство стало одним из механизмов разрушения режима.
С 1920-х годов постановка литературных и философских задач сплелась с задачей выработки социального поведения [92]. Соответствие требованиям власти и социальному заказу, который предполагал более или менее отчетливое осознание автором собственного мировоззрения не должно было быть декларацией. Особенность тоталитарного режима заключается как раз в том, чтобы писать то, что не думаешь. Убеждения и ценности могли быть вполне марксистскими, а теоретическая концепция оказывалась позитивистской. Иными словами, коммунистический дискурс тотален в том смысле, что не оставлял места для отстранения от ценностей ни людям власти, ни оттесненным на периферию официального признания. Особенно этому диктату были подчинены катакомбные (не всегда диссидентские) виды философствования. Здесь требование искренности и преданности ценности приобретало принципиальное значение. Равным образом, философия и социальные науки были устремлены к «жизни». Философ должен быть представителем общественных идей, выходящих за рамки индивидуального творческого опыта. При этом его личные взгляды должны быть прозрачны для общественного контроля, функцию которого выполняла философская критика. Ее задача заключалась в том, чтобы прояснить, что на самом деле имеется в виду под определенным значимым тезисом и истолковать этот тезис, а с ним и личную позицию автора как правильную или неправильную.
В социальных науках, начиная с 1950-х годов шел поиск личностной компоненты философского творчества. «Искренность» и «партийность» были требованием обновления тематики и выразительных средств социального дискурса при отсутствии выраженных ориентиров. «Социология» и «конкретные исследования» были эвфемизмами, скрывающими потребность к обновлению стилистики и словаря социальных наук. Отчетливое осознание несопоставимости внутреннего и внешнего в социальном дискурсе стало одной из причин кризиса легитимации и поиска новых «обоснований» социального порядка, который завершился «ускорением» и «гласностью» второй половины 80-х годов.
Власть стала интересоваться «искренностью» литературы и «лицом писателя» к середине 20-х годов [93]. Речь шла, конечно же, об искренности подчинения требованиям «партийности». В литературе функцию репрезентации искренности выполняют исповедальные жанры, например, биографическое повествование Н. Островского «Как закалялась сталь». «Искренность» хорошо вписывалась в смысловой ряд, заданный требованием саморазоблачения, публичного покаяния, раскаяния и требованием «разоружиться перед партией». Театральные формы такого поведения представлены в судебных инсценировках 20-х годов [94]. Неискренность перед партией рассматривалась как преступление. Принцип «товарищеской открытости» предполагал саморазоблачение, то есть отсутствие гражданского невмешательства с сохранения автономии личности.
Завершенная система воспроизводства знания, которую принято назвать «советским марксизмом», сложилась в 30-е годы [95]. О марксизме (и ленинизме) в данном случае следует говорить лишь условно таково самоназвание этой странной системы знания, которая была вынуждена создать и легитимировать политический режим, направленный на преобразование социальной материи в совершенный социальный порядок. Во всяком случае, марксистский лексикон не должен препятствовать пониманию принципиальной метонимичности советского марксизма. Эта система знания, поддерживающая репрессивные социальные институты и поддерживаемая ими, представляет собой идейную химеру, пронизанную стремлением к уничтожению и одновременно конструированию призрачной реальности. «Идея» не знает покоя, постоянно стремясь к какой-то непонятной «практике» и одновременно отвращаясь от нее. Слово и дело не могут жить друг без друга, но и ужиться не могут. Кажется, советский марксизм не философско-политическая доктрина и не мировоззрение, а своеобычный настрой ума, возникающий от безысходности повседневного существования и устремленный к высокой речи. Сама власть была в значительной степени научным и литературным произведением. Особенность советской философии заключается как раз в том, что она была изначально инкорпорирована в систему воспроизводства власти и создавала ее сакрализованный текст. Именно преобразования текста (его жанровых форм, тематических репертуаров, аргументативных стилей, толкований, прецедентных текстов) приводили к радикальным изменениям в политических порядках. В этом отношении справедливо суждение, что Россия — страна слов.
Особенность социальных наук в России заключается в их ориентации не столько на интерналистские нормы производства дисциплинарного знания, сколько на легитимацию социальных идентичностей и создание идеологий [96]. В этом отношении российское академическое сообщество является сообществом не профессиональным (автономным), а интеллектуальным, и интегрировано в систему воспроизводства и реформирования власти даже в том случае, когда возникает открытый конфликт с властью. Таким образом, постоянный конфликт русских интеллектуалов с властью может быть интерпретирован как «любовь-вражда». Если так, то отчуждение интеллектуалов не столько результат враждебного отношения к власти, сколько следствие чувства отлучения от власти. С этим сопряжена и их склонность отождествлять себя с «силой народа» — крестьянством, пролетариатом, примитивными сообществами, цветными расами, отсталыми нациями.
Определения интеллектуалов должны быть отделены от приписывания им незаурядных интеллектуальных качеств. Речь идет об их специфической функции в воспроизводстве знания. Но если провести различение «высокого ума» и «рассудительности» (здесь пригодно аристотелевское понятие «фронесис»), то именно «высокий ум» может служить релевантной характеристикой их мыслительной позиции, которая, как кажется, противостоит житейскому знанию. Они обладают специфическим качеством праздности (Т. Веблен), которая означает в данном случае не безделье, а свободную, не связанную соображениями пользы умственную деятельность, критическую позицию, игру и творческую оригинальность [97].
Интеллектуалы это незаинтересованная идеалистическая элита, не имеющая отношения к практике и заботам материального характера. Они живут для идеи, ориентируясь в своем поведении на фундаментальные социальные ценности, стремятся утвердить моральные идеалы и символы, обладающие всеобщей значимостью. Интеллектуалы стремятся понять истину сегодняшнего дня, обращаясь к более высокой, всеобъемлющей истине, и поверяют свое обращение к фактам «бескорыстным долгом», считают себя хранителями абстрактных идей (истины, добра и справедливости). В определении интеллектуалов главное, конечно, не их профессиональный статус, а определенная установка сознания на критическое созерцание социальных ценностей и воспроизводство публичного дискурса. Обычно интеллектуалы кажутся аутсайдерами и в то же время хранителями подлинных ценностей и идеалов. Это создает явную напряженность в ожиданиях, которые к ним предъявляются со стороны общества. Интеллектуал должен быть одновременно совестью общества и революционером. Он думает и действует, как бы играя. Идеи имеют для него более чем инструментальное значение.
Чтобы быть интеллектуалом, нужно не только мыслить умно, но и жить интеллектуальной жизнью [98]. Отсюда, в частности, следует, что особое значение в формировании статусной идентичности интеллектуалов имеют символические маркеры стиля жизни. Речь идет прежде всего о моде как форме регуляции социального поведения. C оциальный тип интеллектуала с его ценностями, предрассудками, модами, этикетами, речевыми стилями столь же однообразен, сколь стили других социальных групп. Одежда, прически, очки, домашняя обстановка, сексуальное поведение являют собой значимые элементы личностной идентичности интеллектуалов. Это также субкультура богемы, фронда, ирония.
Положение интеллектуалов в системе власти также амбивалентно. Они мыслят себя как правящее сословие, не находя в нем места, артикулируют социальные ценности и обеспечивают трансмиссию нормативного образца будущим поколениям, но отчуждены от принятия решений [99]. М. Малиа считает существенной чертой интеллигенции отстраненность (apartness) от общества [100]. Л. Козер, следуя К. Манхейму, отмечал, что интеллектуалы живут для идеи, ориентируясь в своем поведении на фундаментальные социальные ценности, стремятся утвердить моральные идеалы и символы, обладающие всеобщей значимостью. В определенном отношении они являются преемниками духовенства как хранителя священной традиции, и в то же время продолжают дело еврейских пророков, проповедовавших в пустыне, обличавших властителей и не имевших ничего общего с официозным благополучием синедриона и синагоги. Интеллектуалы — это те, кто никогда не довольны существующим положением дел и стремятся понять истину сегодняшнего дня, обращаясь к более высокой, всеобъемлющей истине, они считают себя носителями «вечных идей», охранителями моральных принципов, но в то же время думают и действуют, как бы играя и являют собой фермент социальной мобилизации. Содержание воспроизводимых ими ценностей нередко оказывается менее значимым, чем соединение с властью. Во всяком случае, в истории идей известны многочисленные примеры незаинтересованного служения интеллектуалов тоталитарным режимам [101]. Когда интеллектуальная игра становится жизненной задачей, мы можем говорить о призвании «избранных», которое не совместимо с функциональными реквизитами профессии. Вероятно, наиболее существенное отличие интеллектуала от профессионала заключается в том, что интеллектуал не трудится ради хлеба насущного, а живет свободной интеллектуальной жизнью, кажущаяся свобода которой является глубоко кодированной и подчиненной регламентам символической репрезентации — аналогу репрезентационных техник «благородного сословия» [102].
Вера в разум и рациональный порядок почти неизбежно ведут к противоположному — отсутствию реализма и рациональности, прежде всего по причине иррациональной увлеченности рациональными схемами. В результате возникает воображаемое общественное устройство, внешне рациональное, но по своему существу художественное [103]. Литературные увлечения и пристрастия, привнесенные в жизнь, заражают ее духом театральности и надуманности. Увлеченные великими проектами переустройства мира, «люди слова» не могут оставаться в стороне от «практики». Художественно-эстетическая реинтерпретация сферы политического влечет за собой взгляд на людей как на сырой материал, подлежащий эстетическому перевоплощению и очищению. В этом отношении дух тоталитарной утопии является по преимуществу эстетическим [104]. Склонность властителя к театру, сочинению стихов, музыке, живописи являет собой симптом тотального порядка. «Человечество — это сырой материал, поддающийся моей созидающей воле; даже когда люди страдают и умирают, они возносятся этой волей на такую высоту, на которую они нигогда не смогли подняться, не будь моего насильственного, но творческого, вторжения в их жизни. Это аргумент, используемый каждым диктатором, инквизитором и насильником, который ищет моральных и даже эстетических оправданий своих действий», — писал И. Берлин [105]. Таким образом, отношения интеллектуалов и власти мучительны — они не могут жить друг без друга, но и ужиться не могут. Интеллектуалы глубоко переживают невнимание власти, но и не приемлют сотрудничества с ней. Такого рода отчуждение становится нормой интеллектуального этоса. По Р. Хофштедтеру, убеждение интеллектуалов в том, что отчуждение от власти представляет собой самоценность, коренится в традициях романтического индивидуализма и марксизма. Более полутора сотен лет положение творческого дарования в буржуазном мире было таково, что именно оно позволяло осознать сохраняющееся напряжение между творческой личностью и предписаниями общества [106].
Среди факторов, объясняющих отношение интеллектуалов к власти, отмечается не находящее выхода напряжение между их элитизмом и эгалитаризмом. Декларация идеи равенства рано или поздно входит в конфликт с установкой на принадлежность особой группе посвященных. Именно поэтому интеллектуалы убеждены в том, что заслуживают власти, хотя это убеждение не всегда выражается в явном виде. Их стремление к власти вытекает из убежденности в своем высоком предназначении и обусловлено высоким престижем интеллектуальной деятельности в современном обществе. Интеллектуал имеет основания считать, что знает больше, чем обычные люди. Подобное чувство превосходства усиливается, когда его элитарное самосознание подкрепляется определенными формами сертификации и социального признания. Парадоксально, что многие наиболее критично настроенные интеллектуалы получают признание общества, ценности которого они принципиально отвергают. Они имеют высокий социальный статус, пользуются привилегиями, получают большое вознаграждение. Подобное признание, повышая самооценку интеллектуала, обостряет позиционный конфликт между эгалитарными ценностями и чувством превосходства над массой и ее вождями. Напряжение между исповедуемым эгалитаризмом и элитизмом особенно характерно для революционных ситуаций. «Революционер, – пишет П. Холландер, — должен одновременно верить и в свои исключительные способности, и в беспредельное совершенство масс» [107]. Преодоление амбивалентности находит выражение в массовых представлениях артикулирующих экстатическое слияние вождя и народа. Так осуществляется синтез абсолютной власти и абсолютного подчинения [108]. Наиболее существенный признак массы — «простой народ», ожидающий от интеллектуалов морального просвещения и руководства. Во всех случаях «масса» и «народ» остаются для интеллектуала социологическими категориями, перифразом аутентичности, простоты, невинности и нереализованной силы[109].
«Форсированная моральность отчуждения» определяет оппозиционное отношение интеллектуалов к политической власти и нетерпимость к социальным порядкам. В 1960-е годы сообщество советских интеллектуалов было существенно дифференцировано на тех, кто был вовлечен в обслуживание власти (сохраняя в то же время критическую дистанцию по отношению к ней) и «отстраненный» сегмент. Эта дифференциация выражалась в оценке власти, с одной стороны, как аморальной, одиозной и неприемлемой («власть отвратительна как руки брадобрея»), с другой — как неизбежного, но поддающегося исправлению зла. Не вполне ясно, как отражалась эта дифференциация на распределении ресурсов, но «соглашатели» получали дополнительные возможности статусного продвижения. Конфликт между двумя сегментами интеллектуального сообщества (ангажированными и отчужденными) выражался в острой полемике по поводу вещей, казалось бы, не имеющих прямого отношения к власти, например, по вопросам эстетики, искренности в литературе, сюжетного материала. Равным образом дифференцировался тематический репертуар общественных наук: «проблема человека» соотносилась с отстраненной позицией автора, а социетальная тематика связывалась с человеком иерархическим. Дифференциация тематического репертуара достаточно отчетливо отражала дифференциацию «мыслительных позиций» советских интеллектуалов: на одном полюсе воображаемой шкалы локализуются, например, научный коммунизм и исторический материализм, на другом — социология и семиотика.
Положение интеллектуалов в коммунистическом режиме обычно описывается в терминах подавления и репрессии. Это справедливо применительно к пролеткультовской идеологии, попыткам открыть «пролетариату» путь к знаниям путем квотирования студенческих мест [110], а также постоянными рецидивами поиска «вредителей». Интеллектуализация коммунистической власти приобрела завершенные формы в середине 30-х годов, когда были реформированы институты управления, науки и образования и типичное для троцкизма восприятие специалистов как «попутчиков» сменилось метафорой «народной интеллигенции». Но, самое главное, была вполне осознана «умственность» коммунистического проекта и необходимость научного управления социальными и экономическими преобразованиями [111]. Характерна архетипика сложившегося в массовом сознании образа вождя, доминантой которого были мудрость и прозорливость, и тотальная значимость «коллективного разума» партии. Здесь работает феномен священновластия, которое хотя и не исключает деспотию, но не сводится к ней [110]. По Е.Б. Рашковскому, три основных принципа составляют сущность священноначалия: воспроизводство и толкование священного текста как смысл интеллектуальной работы; постижение явленного в тексте Абсолюта; личное общение учителя с учеником, необходимое для постижения священного текста. Эта эпистема порождает идею учености как знак превознесенности над суетным миром смертных [113] и, по всей вероятности, являет собой легитимационную основу социальности в партимониальных сообществах, к числу которых, по Р. Пайпсу, и принадлежала Советская Россия [114].
В конце 1930-х годов институты Академии наук, университеты, творческие союзы, редакции и издательства представляли собой официальные учреждения, органы партийно-государственного управления [115]. В то же время они обладали собственными интересами, стремились к автономии и усилению влияния на центральную власть. Революционные идеи рутинизировались и превратились в рациональные принципы, требующие исторического и логического обоснования. Концептуальный лексикон, схемы аргументации и риторика социальной науки приобрела завершенную форму. Однако как раз в то время, когда все казалось мертвым и застывшим, происходила незримая революция в идеологии и общественной жизни. Она стала возможной благодаря поразительной дисциплинарной открытости советского марксизма. Как ни удивительно, доктринерская напыщенность, «идейная убежденность» и даже укорененный в подсознании страх не исключали возможности его адаптации и версификации доктрины в самых неожиданных направлениях. В корпусе канонических текстов марксизма-ленинизма всегда находились фрагменты, необходимые для обоснования новых идей. Обнаруживая глубокое сродство с социальными учениями Просвещения, марксизм обладает огромным объяснительным потенциалом. Ясность и логическая стройность его категориальных схем удивительным образом совмещаются со способностью к версификации. Этим, вероятно, объясняется и многообразие «авторских» исследовательских программ и концепций, разрабатывавшихся в рамках доктрины. Поэтому советский марксизм — не столько доктрина, сколько эзотерический словарь воспитания, который может успешно использоваться и в качестве средства для воспроизводства альтернативных марксизму идей [116].
Социальные трансформации режима были в значительной степени связаны с «дискурсивной катастрофой» в системе священнокнижнических легитимаций социальных порядков. Уже в 1950-е годы происходило активное реформирование советского марксизма, сопровождавшееся диверсификацией и автономизацией дисциплинарных областей социальной науки и их освобождением от «талмудизма и начетничества». Автономизация новых дисциплин требовала, во-первых, обоснования их лояльности текстовому канону марксизма, во-вторых, создания специализированного языка, обособленного от языка публичной сферы. Поиск нового философского и социологического языка фокусировался в области истории философии и «критики буржуазной социологии», которая выполняла тогда задачу рецепции «внешних» идей [117]. При этом «подлинно научная теория природы и общества» благодаря своей жанрово-стилистической рецитативности [118] сохранялась как методологическая база и идеологическая декларация для формирующихся дисциплинарных автономий. Этот процесс сопровождался «дискуссиями», чаще всего инициированных активной борьбой внутри научного сообщества, наиболее важным результатом которых было перераспределение властных позиций и возникновение новых исследовательских программ.
Процесс диверсификации и профессионализации социального дискурса приобрел отчетливые формы уже в конце 1930-х годов, когда была реформирована система научных учреждений, но, вероятно, кардинальные и необратимые изменения были связаны с преобразованиями 1950-х годов. Основной мотив критической атаки на власть заключался в демонстрации ее несоответствия коммунистическим идеалам, утраты «ленинских» принципов и бюрократического перерождения. Искренней одухотворенностью и яркостью публицистической риторики интеллектуальная атака 60-х годов напоминала ликвидированную из исторической памяти атаку троцкистской оппозиции. Как и в 20-е годы акцентировалось соответствие институциональных порядков принципам революционной морали — честности, бескорыстию, идейности. Предполагалось, что само слово правды преодолевает идейный и нравственный коллапс советского режима. Чуждость государственно-бюрократических порядков «коммунистической правде» была отчетливо осознана не только в троцкистской, но и либеральной литературе. Опора Сталина — профессионалы, «знатные люди», — писал Г. Федотов. — Сталин создает новый служилый класс, он находит социалистические стимулы конкуренции в чудовищно дифференцированной шкале вознаграждения, в личном честолюбии, в орденах и знаках отличия, в элементах новой сословности. Образуется новая аристократия: ученые, писатели, инженеры. Для новых людей народнические и жертвеннические идеалы старой интеллигенции безразличны. Трудовой или художественный рекорд заменяет нравственные основы жизни. Интеллигенция — с властью, как в XYIII веке» [119].
Партийное руководство ленинского периода состояло из людей, глубоко вовлеченных в теоретические дебаты и претендовавших на интеллектуализм. В 1930-е годы, когда сложились основные институты государственно-политического управления, высшее образование имело незначительное количество секретарей обкомов. К началу 1940-х годов, когда борьба с «бурспецами» была прекращена, окончательно сформировалось сословие «новых мандаринов» и более 60% секретарей региональных партийных комитетов имели высшее образование. Доходы писателей, артистов, профессоров многократно превышали средние доходы служащих и нередко были выше, чем обеспечение высших чиновников партии. Дело не сводилось к величине доходов. Именно в этот период интеллектуалы получили доминирующие позиции в светском обществе. Помимо обычного преподавания обществоведы обслуживали огромную сеть политического просвещения. В 1947 году в СССР действовали 60 тыс. политшкол, где обучалось: 800 тыс человек, а. В 1948 г. было уже 122 тыс. политшкол, в которых обучалось 1,5. млн чел. Соответственно, сообщество интеллектуалов стало резко стратифицироваться.
Корпоративная организация общества предполагает корпоративную организацию культуры. Воспроизводство интеллектуального сообщества в коммунистическом режиме осуществлялось на основе статусных привилегий.
Интеллектуальный «полусвет» создал литературные и философские жанры, близкие диатрибе и памфлету. Здесь требовались прежде всего эпатаж и «смелость» суждений, находившие отклик у массовой аудитории. Формирование сословия советских интеллектуалов в 1960-е годы было сопряжено с изменением стилистики публичного дискурса: люди «болели» стихами. В списках распространялись стихи А. Ахматовой, О. Мандельштама, Н. Гумилева, М. Цветаевой, И. Бродского. Знание стихов стало своеобразным паролем для доступа к интеллигентский круг. Страсть к стихам породила и первые выступления против власти. 29 июля 1958 года в Москве был открыт памятник Маяковскому. Поэты читали стихи. Затем возникли спонтанные выступления, и чтения стихов стали происходить регулярно. Участниками встреч были преимущественно студенты. Когда власти попытались воспрепятствовать поэтическим сходкам, возникло сопротивление, и в 1961 г. были арестованы и осуждены за антисоветскую агитацию любители поэзии В. Осипов, Э. Кузнецов и И. Бакштейн [120].
Противостояние интеллектуалов и власти не было разделено статусными позициями — это, скорее, противостояние стилей текстообразования. Тексты повышенной значимости, способствующие сплочению общества, требуют особой техники чтения и интерпретации — они подлежат частому и точному повторению. В традиционных обществах это преимущественно тексты сакрального характера, а в современных обществах такие тексты связаны с производством идеологий. Текст советского марксизма предназначался для того, чтобы заучивать его наизусть. «Овладение марксистско-ленинской теорией — дело наживное» — эта общеизвестная формула трактовалась как установка на преодоление заумных философских рассуждений, «жонглирования гегелевской терминологией» (аллюзия на «диалектиков»-деборинцев, «меньшевистствующих идеалистов») и «создания там, где надо, новой философской терминологии, понятной и доходчивой для каждого советского интеллигента» [121]. Философия, таким образом, совмещалась с общенародной склонностью к философствованию и политической грамотностью, и профессиональное сообщество, занимая достаточно высокие этажи социальной иерархии, непосредственно соприкасалось с «профанным низом» [122]. Лексикон философии и политической теории сводился к прецедентным текстам, аллюзиям и иносказаниям, обозначавших определенные фрагменты из корпуса первоисточников марксизма. «Единство мира — в его материальности, движение — способ существования материи, ощущение — субъективный образ объективного мира, мышление — свойство высокоорганизованной материи и продукт общественного развития, от живого созерцания — к абстрактному мышлению и от него к практике, практика — критерий истины и узловой пункт познания, Иван — человек, Жучка — собака» — эти формулы составляли содержание курса философии, преподававшегося в с конца 40-х годов и затем в течение 50 лет без существенных изменений.
В философии процесс диверсификации тематической программы также сопровождался напряженными «дискуссиями» (1947-1948 гг.), но они не оказали видимого воздействия на реформирование дисциплины, хотя ее руководящее звено значительно обновилось. Возглавлявший недолгое время журнал «Вопросы философии» Б.М. Кедров предпринял неудачную попытку ввести профессиональную специализацию в философское образование, но, несмотря на идеологическую риторику, в середине 1950-х годов сформировались достаточно автономные области социальных наук с характерными признаками школ. Речь идет прежде всего об истории философии, «критике буржуазной социологии» и эстетике, которая стремилась создать автономную марксистско-ленинскую науку, основанную на новом определении природы эстетического [123].
Ни «крестьянские войны» и голод в деревне, ни массовые репрессии, ни низкий уровень жизни не поставили под вопрос существование коммунистического режима. Его крах стал следствием разрушения «социальной теории» и конфликта в дискурсивном сообществе в относительно стабильных политических и экономических обстоятельствах. Он был предуготовлен движением «шестидесятников» и вступил в критическую фазу в период «плюрализма мнений», обозначенного атакой «докторальной публицистики», которая стала играть роль альтернативного мозгового центра страны. Атака исходила от идеологических изданий, в числе которых был и теоретический орган ЦК КПСС журнал «Коммунист». Реформирование «социальной теории» осуществлялось публицистами перестройки путем форсирования моральных требований правды, справедливости, подлинной демократии и свободы [124]. Тематика атаки была связана прежде всего с развертыванием метафоры «называния вещей своими именами», «преодоления недостатков», в том числе новым «прочтением прошлого и раскрытием «белых пятен» советской истории, созданием образа врага («мафии») и глубокой вовлеченностью интеллектуалов в массовые «оргиастические» мероприятия: собрания, коллективные обращения, митинги. «Социальные науки» перестроечного периода находились в поиске нового словаря в ситуации «текстовой аномии» — отсутствия «официального языка», иногда сталкиваясь с парадоксальной ситуацией цензурного запрета «неперестроечных» идей [125] и поддержки (иногда явной) «антипартийных» идей в партийном аппарате [126].
Почему же возник конфликт в советском дискурсивном сообществе, завершившийся кризисом легитимации? К концу 1930-х годов, когда инициированная троцкистами борьба с «буржуазными специалистами» была прекращена, окончательно сформировалось сословие «новых мандаринов», органически включенных в стратификационную систему режима [127]. Доходы писателей, артистов, профессоров многократно превышали средние доходы служащих и нередко были выше, чем обеспечение высших чиновников партии. Дело не сводилось к величине доходов. Именно в этот период интеллектуалы получили доминирующие позиции в светском обществе, и само светское общество было сформировано интеллектуальным бомондом.
В конце 1930-х годов «пролетарское происхождение» и революционные заслуги еже не гарантировали вертикальной социальной мобильности. Доминирующее положение заняли интеллектуалы. Формирование «светского общества» означало окончательное изживание романтического революционаризма из социального дискурса. «Светское общество» (прежде всего московский бомонд) состояло из литературных, театральных, дипломатических и научных кругов, в которые иногда входили партийно-государственные руководители. В конце 40-х годов вполне обозначились рамки социального слоя, который можно назвать «золотой молодежью». Богатство как таковое не создавало принадлежности к «свету», но сама принадлежность к информированным кругам, учеба в престижных университетах (МГУ, МИИФЛИ, МГИМО с 1947 года) создавали социальное пространство, где формировались анклавы межличностной коммуникации интеллектуалов.
Положение интеллектуалов в коммунистическом режиме сопоставимо с положением «благородного сословия». Разрушение этого культурного слоя связано с системой конкуренции, где социальные идентификации вырабатываются через сравнение с другими группами и желание значить больше, чем другие. «Любое место становится лишь “транзитным пунктом” в этой всеобщей погоне за «больше-значимостью», — писал Макс Шелер [128]. Принципиально новая ситуация заключалась в том, что сравнительно узкий круг московских интеллектуалов уже мог иметь частную собственность, тогда как партийные бонзы фактически находились на гособеспечении и собственности не имели: и квартиры, и мебель, и автомобили были казенными. В этих условиях и стали нарастать предпосылки социальной поляризации в интеллектуальной среде, которая выразилась в формировании, с одной стороны, «высшего света», имеющего гарантированный или почти гарантированный доступ к ресурсам, в том числе массовой аудитории, с другой — литературного пролетариата, «низов» (low-life, по выражению Р. Дарнтона [129]).
В советском интеллектуальном сообществе не было «низов», поскольку свободный литературный и тем более научный заработок не предполагался, и исключение из Союза писателей или КПСС означало катастрофу. Но был и интеллектуальный «полусвет», не имевший постоянного входа в систему рационирования. Стремление «высшего света» к кастовой закрытости и давление интеллектуального «пролетариата» способствует развертыванию кризиса легитимности социальных институтов, когда их самоочевидный характер уже не может поддерживаться в рамках привычных систем значений [130]. Именно из литературного «пролетариата» вырастают вожди революции. Само по себе разделение «подработки» и творчества, типичное для этой группы интеллектуалов, также свидетельствует об их интегрированности в институциональные порядки. Есть некоторая опасность в преувеличении дистанции между «высшим светом» и интеллектуальным пролетариатом советской эпохи. Вероятно, ключевым было разделение умонастроений, смысловых перспектив, точек зрения, а не социальных позиций.
Следует подчеркнуть значение института профессиональной экспертизы для обществ модерна. Революция 1930-х годов в немалой степени заключалась в перемещении социальной базы коммунистического режима на профессионально-управленческий слой. Характерное для 1920-х годов «живое творчество масс» сменилось интеграцией институтов власти и сформировавшегося «светского общества», ядро которого составили советские интеллектуалы [131]. Режим опирался уже не на противопоставление буржуазных и пролетарских ценностей, а на идее стабильного общества. Произошла аккомодация режима по отношению к культурным стандартам светского общества. В. Дэнхем считает, что в 1940-е годы в Советском Союзе сформировался средний класс, представлявший не столько социальную страту, сколько культурный слой. Именно в среднем классе сталинизм нашел свою социальную базу [132]. В определенной степени это был результат «обуржуазивания» и укрепления патримониальной бюрократии. Мемуарист имел основания назвать их стяжательско-карьеристской частью партийной и непартийной интеллигенции [133]. Круг светского общения был по преимуществу культурным, а не номенклатурным: некоторые из интеллектуалов жили в благоустроенных квартирах и приезжали в университет на автомобиле, другие донашивали военную униформу. Мифология рабочего класса-гегемона, фундаментальная для дискурса 1920-х годов, существенно модифицировалась: на первый план выдвинулась идея научного управления обществом. Доктрина приобретала вид рациональной прагматической схемы, где проводилось отчетливое различение между словами и делами. С 1936 года коммунистическая идеология ориентировалась не столько на классовую борьбу, сколько на интеграцию общества. Лозунг усиления классовой борьбы был фокусирован на отчетливо определенных целях. В начале 1940-х годов интеллигенция заняла доминирующие позиции в социальной структуре и вполне осознала задачу реформирования социальных порядков как задачу создания нового лексикона власти. Вводились новые, расширяющие тематический горизонт коммунистической идеологии понятия «переходного периода» между социализмом и коммунизмом, «научного управления обществом», «преодоления пережитков прошлого». Критика «культа личности Сталина» считается поворотным пунктом в истории советской общественной мысли и началом «оттепели». Однако нельзя не учитывать, что «оттепель», обозначившая конфронтацию (пишущей) интеллигенции и бюрократизированной власти, сопровождалась взрывом коммунистической экзальтации. Троцкистская идея перманентной коммунистической революции стала основой анисталинского движения. В 1956 г. в одном из внутренних документов партии отмечалось, что «на философском фронте наблюдаются известные рецидивы меньшевистствующего идеализма, позитивизма, они носят и некоторый политический оттенок и даже в известной мере отражают настроения, которые идут по линии троцкизма. Эти настроения тоже в известной мере оживляются. Если не дать им серьезный и решительный отпор, они будут развиваться и дальше» [134].
К новой аристократии, «аппаратчикам-интеллектуалам» 1950-х годов можно отнести А.А. Жданова, Ю.А. Жданова, Г.Ф. Александрова, Л.Ф. Ильичева, Г.П. Францева, А.М. Румянцева, П.Н. Федосеева, К.В. Островитянова, Е.С. Варгу, П.А. Сатюкова, П.Ф. Юдина, Ф.В. Константинова, А.М. Еголина, М.Б. Митина [135]. Почти все они были приближены к «номенклатуре», но в то же время находились на определенной дистанции от политического руководства, хозяйственным и военно-промышленным лидерам. Воспроизводство интеллектуального сообщества в патримониальном коммунистическом режиме осуществлялось на основе квазисословных привилегий, где «образованность» и «идейность» маркировали новую аристократию. Кого-то приводил в «высший свет» талант, но в случае социальных наук «лифт» обслуживался протектором. Вообще говоря, протекция присуща любой стратифицированной системе профессиональной мобильности, но ее принципиальное отличие от профессионального достижения заключается в явном или неявном императиве личной преданности, своего рода патримониального доверия господина к слуге. Если такое доверие существует, открывается доступ к контролируемой протектором сфере привилегий, в том числе привилегии заниматься профессиональным интеллектуальным трудом. Несмотря на отсутствие слова «привилегия» в советском статусном словаре, доступ в систему производства знания обеспечивался покровительством, статусными маркерами лояльности (например, отношением к «мировому сионизму» в издательствах «Молодая гвардия и «Советский писатель»), членством в творческих союзах, учеными степенями и званиями, а также ламинальными зонами и корпорациями (официальными и полуофициальными). К последним, например, относилось членство в Доме ученых [136]. Своего рода корпорациями являлись дружеские круги и «кружки» — альтернативные институты интеллектуального воспризнания. Создавая особые символические коды и средства опознавания «своих», интеллигентские кружки инкорпорировались в универсальную статусно-корпоративную систему посредством «сетей» [137]. Здесь действовали свои нормы стратификации и «табели о рангах», где, например, доступ к самиздату нередко имел большее значение, чем профессорское звание. При этом декларируемая лояльность коммунистическому режиму не рассматривалась в качестве аутентичного маркера принадлежности к «высшему свету». Наоборот, умение дифференцировать ролевые репертуары и соответствовать ожиданиям в разных коммуникативных контекстах интерпретировалсь как условие доверия.
* * *
В совокупном тексте социальных наук, как в сорокинской «куче», сосуществуют и образцы поразительной рефлексии, и добротные научные гипотезы, и идеологическая риторика. Социологическая наука не только обеспечивала легитимацию социального порядка, но и создавала эзотерический язык, с помощью которого устанавливалась идентичность обособленной, хотя и неоднородной, группы гуманитарной интеллигенции, своеобразного незримого колледжа. Из того обстоятельства, что марксистскую науку об обществе лучше всего изучать с позиций социологии знания, следует, что она не была в строгом смысле наукой. Коммуникативные ресурсы дисциплины были рассчитаны не на профессиональную аудиторию, а на общество в целом. В этом ее историческая уникальность.
Вероятно, ни одна общественная наука в мире не обладала и не обладает таким влиянием на жизнь общества, каким обладала советская версия марксизма. Западная социология замкнута на самое себя, социальные проблемы представляют для нее чисто академический интерес, дистанция между университетской кафедрой и властью необозрима. Советское же обществоведение было обществоведением par excellence — философия, социология, научный коммунизм создавали картины мира и транслировали их на многомиллионную аудиторию, используя для этого массовую печать, радио, телевидение, систему партийно-политической учебы, и, самое главное, разрабатывался проект практического переустройства общества. Вряд ли будет преувеличением сказать, что советский марксизм осуществлял власть над умами и, в той степени, в какой обществоведы участвовали в легитимации социальных порядков, власть над властью. Идея светлого будущего открывала перед общественной мыслью мир неограниченных возможностей. Коммунизм воспринимался не только как пропагандистский лозунг. Он содержал в себе предощущение свободы и торжества научной мысли [138]. Смысл обществоведческой работы заключался, собственно говоря, в рационализации и развертывании будущего посредством критики настоящего. Посткоммунистический дискурс утратил топику «советского марксизма», но сохранил и прагматику, и стилистику его интеллектуальной работы.
Примечания
Многие положения данной работы сформулированы благодаря дискуссиям с Э. Свидерски, который не только детально комментировал различные версии текста, но и во многом задал круг обсуждаемых проблем. Л.А. Козлова неоднократно читала предварительные варианты рукописи и внесла в окончательный текст важные исправления. Некоторые разделы статьи обсуждалась на семинаре сектора социологии знания Института социологии РАН. Автор признателен коллегам за критические замечания.
1. Система воспризнания результата в гуманитарных науках требует «нового» как фигуративного текстового образца, а не как обнаружения аномалии в предшествующих тематических концептуализациях. Иными словами, текст должен содержать более или менее ясное указание на новизну, выраженную либо в виде внутреннего заглавия, либо стилистически, в виде эпатажа, скандала, неприятия «устаревшего» и «традиционного». Однако разрыв с культурным образцом осуществляется с помощью дискурсивных средств, предписанных опять же культурной системой. «Новый разрыв с прошлым культурно наиболее традиционен как раз тогда, когда он наиболее радикален». См.: Гройс Б. О новом // Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Изд-во «Знак», 1993. С. 115.
2. Дж. Шалл называет книгу формой молитвы и пишет о книжной природе знания как универсальном феномене: «Каждый знает, что события жизни уже описаны в книгах и именно из книг заимствуются названия событий». — Shall J . Books and the intellectual life: We are capable of knowing all things // Vital Speeches of the Day. March, 1. 1999.
3. В этом же ряду можно рассматривать и представленную веховской традицией идею «покаяния» как приписывания интеллигенции сверхзначимой позиции в обществе. Во всяком случае, снижение роли интеллигенции в обществе и сегодня привычно интерпретируется как наступление реакции. Это отмечено А.С. Изгоевым. См. Изгоев А.С. Социализм, культура и большевики // Из глубины. М., 1991. С. 362.
4. Проблема заключается в том, где кончается идеология и начинается наука. Идеология, по Мангейму, это маски и оружие. В той степени, в какой идеи «обусловлены» социальным напряжением или социальной принадлежностью, идеологии представляют собой симптом и лекарство. По К. Гирцу, идеология — это структурированная реакция на структурные напряжения социальной роли. Иными словами, идеология — это изложение своего недовольства. Идеология пытается придать смысл непостижимым для нее социальным ситуациям. Условия для появления систематических идеологий создает именно сочетание общественно-психологического напряжения и отсутствия культурных ресурсов, с помощью которых это напряжение можно осмыслить. «Наука, — пишет К. Гирц, — именует структуру ситуации таким образом, что в именовании заключено отношение незаинтересованности. Ее стиль — сдержанность, сухость, решительная аналитичность; избегая семантических приемов, лучше всего выражающих нравственное чувство, она хочет достичь максимальной интеллектуальной ясности. А идеология именует структуру ситуации так, что в именовании заключено отношение вовлеченности… Она хочет побудить к действию». См.: Гирц К. Идеология как культурная система // Новое литературное обозрение. 1998. Т. 29. С. 33.
5. Эта концепция развернута в работах Б. Гройса. См. Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Знак, 1993. С. 5. Аналогичный взгляд на русскую философию развивает П. Кузнецов: «Философ является своего рода магом, демиургом: из сырого материала жизни он способен сконструировать собственную реальность». См. Кузнецов П. Русский Феникс, или Что такое философия в России // Звезда. 2001. № 5. С. 223.
6. Изер В. Вымыслообразующие акты / Пер. с нем. Г. Дашевского // Новое литературное обозрение. 2001. № 27. С. 23-40.
7. Vaihinger H. The Philosophy «As if»: A system of the theoretical, practical and religious fictions of mankind / Transl. by C.K. Ogden. New York, 1932. P. 258.
8. Изер В. Вымыслообразующие акты / Пер. с нем. Г. Дашевского // Новое литературное обозрение. 2001. № 27. С. 23-40.
9. Аналогичная мысль имеется у Бабеля: «В исступлении благородной страсти больше надежды, чем в безрадостных правилах мира». См.: Бабель И. Ди Грассо // Бабель И. Конармия. Рассказы. Дневники. Публицистика. М.: Правда, 1990. С. 359. О том же пишет Эрнст Блох в «Принципе надежды». Возможно, на этом фоне создается беллетризованная наука — соединение доказательности и чувствительности.
10. Детальный анализ семантического задания самиздатовской риторики, отображающей риторику коммунистического режима и развертывающейся в одном с ним символическом пространстве, содержится в публикации С.А. Ушакина. См . Oushakin S. The terrifying mimicry of Samizdat // Public Culture. No 13 (2). P . 191-214.
11. Изменения литературных образцов могут быть объяснены расположением сил в «поле» борьбы за власть, как это делает М. Берг. Однако это объяснение принадлежит к типу самоподтверждающихся мифологий, поскольку даже отказ от борьбы за власть тоже обясняется как форма борьбы за власть. См. Берг М. Литературократия: проблема присвоения и перераспределения власти в литературе. М.: Новое литературное обозрение, 2000.
12. «Основные формулировки метода социалистического реализма были разработаны в весьма сложных и на высоком интеллектуальном уровне проходивших дискуссиях, участники которых очень часто платили за неудачную или несвоевременную формулировку жизнью, что, разумеется, еще более повышало ответственность за каждое сказанное слово. Современному читателю этих дискуссий прежде всего бросается в глаза относительная близость позиций их участников, которые им самим, разумеется, представлялись взаимоисключающими. Эта близость между исходными установками победителей и их жертв заставляет с особой осторожностью отнестись к однозначным оппозициям, продиктованным чисто моральной оценкой событий», — пишет Б. Гройс. См.: Гройс Б. Стиль Сталин // Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Изд-во «Знак», 1993. С. 16.
13. Просвещение форсировало личностный компонент публичной речи и в этом отношении создало новый, «автороцентристский», стиль письма. По всей вероятности, «автороцентризм» не принадлежит исключительно романтизму, а представляет собой результат перемещения картины мира в область «личного спасения». «Авторство» как призвание «оригинального гения» тесно связано с энтузиастическими движениями, сопряженными с религиозным экстремизмом, презрением к церковным и светским предписаниям, провозглашением интимных, личных отношений с богом. Разумеется, форсируя свое исключительное предназначение в тварном мире, «энтузиасты» не могли удержаться в пределах церковной организации, ритуала и догмы, равно как и светских установлений. У них была «личная религия», основанная на непосредственном откровении и уверенности в своей призванности; они чувствовали в себе силы и призвание к переустройству земного мира в соответствии с идеалом, которым были очарованы. Превращение читателя в активного собеседника автора и соучастника творческого процесса, «сочувственное чтение» и беседа как форма литературной коммуникации являют собой необходимые условия конституирования авторства: типичный для романтической традиции образ «изгнанника», «живая речь», неформальные пространства чтения (кружок, салон, клуб, колледж).
14. «Дистанцирование от современности как пространства, занятого «другими» («карьеристами») пассивное его переживание и вялое недовольство было характерно для квалифицированного большинства образованных слоев и брежневской, и горбачевской, и ельцинской эпохи». В 1990-е годы новые имена вводятся в отечественную среду на правах скандальных (шумных), но репрезентативных фигур и событий. См.: Гудков Л., Дубин Б. Молодые «культурологи» на подступах к современности // Новое литературное обозрение. 2001. № 4 (50). С. 158-159.
15. При коммунистическом режиме участие символических фигур интеллектуального сообщества (например, Ю.М. Лотмана, А.Я. Гуревича, С.С. Аверинцева, Ю.А. Левады, М.Б. Мамардашвили) в распределении академических статусных позиций исключалось самим нормативным образцом. А в 1990-е годы в списках кандидатов на выборах в Российскую академию наук можно видеть представителей нового в том числе радикального интеллектуализма. В этом отношении формы интеграции интеллектуалов в социальную структуру значительно трансформировались. Вместе с тем, возник и новый слой, отстраненный от научных институтов.
16. Л.Д. Гудков и Б.В. Дубин замечают, что «Запад» в России становится символическим маркером, метафорой «публичности» и интеллектуальной универсальности. См. Гудков Л.Д., Дубин Б.В. Раздвоение ножа или диалектика желания // Новое литературное обозрение. 2001. № 49.
17. Л.Д. Гудков и Б.В. Дубин пишут, что снятие цензуры имело двойной эффект: с одной стороны, открылась возможность разработок в ранее недоступных областях и использования новых концептуально-теоретических средств, с другой стороны, стали возможными умозрительные построения, мотивированные идеологическими, антропологическими, социальными, религиозными взглядами и интересами авторов. Резкое ослабление институционального контроля, в том числе корпоративных норм, критики, дискуссии, экспертизы смазало конвенциональные границы между профессиональной деятельностью исследователей и занятиями «эссеистов» или «дилетантов». Авторы делают вывод о двойственности культурной репродукции в России, обусловленной несопоставимостью формальных институтов и повседневности: «специалисты есть, а науки нет». — См. Гудков Л.Д., Дубин Б.В. Раздвоение ножа или диалектика желания // Новое литературное обозрение. 2001. № 49.
18. А. Левин связывает независимость научного сообщества с элементами самоорганизации и самоуправления, не санкционированных формально-бюрократическими структурами управления наукой. Форма существования научного сообщества связывается А. Левиным с самоуправляющимися научными ассоциациями, неформальными объединениями, группами давления, политическими фракциями. Исходя из этой посылки А. Левин считает, что подлинное научное сообщество существовало в России до Октябрьского переворота, а затем было разрушено: «стагнация советской науки в значительной степени была порождена именно невозможностью ее функционирования по модели гражданского общества». См.: Левин А. Наука в России на пути к формированию гражданского общества // Философские исследования. 1993. № 4. С. 451. А. Левин считает, что в основе идеологии этих групп лежит установка на дебюрократизацию и демократизацию науки. Однако в 1920-е годы разрушение системы научных и учебных институтов осуществлялось преимущественно не формальными группами, а самоуправляющимися научными и творческими ассоциациями, которые боролись за власть и прерогативу осуществления коммунистического проекта. Это убедительно показано на примере истории творческих союзов, а также истории гратификационных учреждений в Советской России.
19. Например, на одной из тартуских конференций по семиотике доклад о поэзии Набокова фигурировал как доклад о некоторых аспектах поэзии Годунова-Чердынцева — всем, кому надо, было понятно.
20. Советский дискурс опирается на селекцию прошлого культурного наследия как «прогрессивного» и «реакционного». Соответственно формируется содержание исторических текстов, где, например, гегелевская философия имеет две стороны, а некоторые авторы вообще исключены из рассмотрения. Исключение из «наследия» также представляет собой форму рецепции, обеспечивающую даже более благоприятные условия для понимания, чем рецепция «прогрессивных» идей, поскольку нет необходимости адаптировать их к «актуальным задачам». Даже состояние «запрещенности», в котором оказались многие источники, в конечном счете позволило сохранить их в качестве неиспорченных анклавов. Кроме того, невозможность представить их в качестве актуальных привносила ореол «запрещенности» в саму работу исследователей. Агиография социальных наук не позволяла отклониться от канона, а изучение ряда исторического забвения было связано с меньшими ограничениями. Б. Гройс считает, что сталинский социалистический реализм действительно уничтожил традицию, приняв ее в качестве наследия, тогда как лефовцы и рапповцы предпочитали «сжечь Рафаэля», но не превращать его в материал для собственного художественного проекта. Так отчетливое размежевание с определенным корпусом текстов и помещение его в «спецхран» либо другой ряд забвения сохраняет его как культурный раритет и возможность прочтения, тогда как ликвидация границы и внесение источника в «писание», «предание», массовую информацию или другой инородный текст почти неизбежно превращает его в палимпсест, где требуется расшифровка, «новое прочтение» и другая археологическая работа. Так, после десятилетий «ленинианы» и бытования десятков ленинских прецедентных текстов в массовом обществоведении обнаружилось, что Ленин как мыслитель требует нового изучения.
21. «Нельзя представить дело так, что была литература и были надзирающие за ней инстанции. Сказать, что советская литература существовала и развивалась в условиях несвободы, значит польстить ей или оклеветать ее. Цензура не вне литературы, а часть ее. Мемуары Лакшина создают иллюзию, будто существовала независимо развивающаяся литература и противостоящая ей литературная бюрократия. См.: Хазанов Б. Левиафан, или Величие советской литературы // Октябрь. 2000. № 1. С. 167.
22. Добренко Е. Формовка советского читателя: социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. СПб.: Академический проект, 1997. С. 124-125, 126.
23. Ромашко Г.П. К дискуссии о типах тоталитаризма: Рец. на кн.: Rejman M . O kommunistickem totalitarizmu a o tom, cosnim socvis. Praha, 2000. // Вопросы истории. 2001. № 8. С. 107-112.
24. Чередниченко Т.В. Между «Брежневым» и «Пугачевой»: Типология советской массовой культуры. М.: РИК «Культура», 1993. С. 76.
25. В 1953 году издана книга Д. Бруно «О героическом энтузиазме», где он говорит о двух видах энтузиастов. В одних, как в пустую комнату, входят божественное сознание и дух. Другие энтузиасты действуют не как сосуды и орудия, а как главные мастера и деятели. «Энтузиаст идет ввысь и достигает созерцания и почитания божественной красоты, света и величия; таким образом, от этих видимых вещей он идет к украшению сердца, настолько более превосходного в себе и более почтенного в очищенной душе, насколько оно отдалено от материи и чувства». См.: Бруно Д. О героическом энтузиазме / Пер. с итал. Я. Емельянова; Предисл. Э. Егермана. М.: Худ. литература, 1953. С. 52-53, 124.
26. Добренко Е. Формовка советского читателя: социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. СПб.: Академический проект, 1997. С. 8.
27. Гриц Т., Тренин В., Никитин М. Словесность и коммерция (книжная лавка А.Ф. Смирдина) М.: Федерация, 1929. С. 272, 275.
28. Добренко Е. Формовка советского читателя: социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. СПб.: Академический проект, 1997. С. 156.
29. Ленский Б. Российское книгоиздание на рубеже веков // Книжное обозрение. 2001. 3 сентября. Данные 2000 г. основаны на перерасчетах сведений, содержащихся в Государственных библиографических указателях «Книжная летопись» и «Летопись журнальных статей».
30. Данные установлены путем пересчета сведений, опубликованных в текущих выпусках ГБУ «Книжная летопись» за 2000 г.
31. В сентябре 2002 года данные статистики печати за 2001 год еще не были опубликованы. Поэтому приводятся оценочные цифры.
32. Можно различить слои бытования философской литературы. Это круги чтения, структурные характеристики которых неизвестны. Но было бы неверно считать философией и социологией то, что называется философией и социологией на титульных полосах изданий. Книга Р.М. Ганиева «Филиация аксиологических мировоззрений» (Владикавказ: Изд-во Северо-Осетинского госуниверситета, 1999) является примером поиска новых непонятных слов и ожидания чего-то нового. Эти тексты различаются только в определенных коммуникативных зонах. Массированные переводы К. Кастанеды создали сегмент элитарного чтения в философии, а книга Джулии Скалки «Гороскоп мгновенных предсказаний» (пер. с англ. М.: Крон-пресс. 1999) может входить в тот же круг чтения, где присутствуют Деррида и Кастанеда. Равным образом, в обновленной философии представлены пророчества Нострадамуса, гадание по системе «Таро», черная и белая магия, книга А.И. Белкина «Запах денег» (М.: Терра, 1999). Книги Э. Берна «Игры, в которые играют люди» и «Люди, которые играют в игры» (М.: Гранд, 1999) занимает одно из ведущих вест в рейтингах продаж. Аудитория философской литературы в несколько раз превышает количество близких к философии специалистов. Равным образом в разделе «Социология» показана книга: Зарубинский В.А. Женщины: как следует знакомиться, овладевать и обращаться с ними: Справочник для мужчин. М.: Дограф, 1999.
33. Печать Российской Федерации в 1999 году: Статистический сборник / Российская книжная палата; Под ред. Г.И. Матрехина. М., 2000. С. 26, 44, 38.
34. Печать Российской Федерации в 1999 году: Статистический сборник / Российская книжная палата; Под ред. Г.И. Матрехина. М., 2000. С. 91, 92.
35. Печать Российской Федерации в 1999 году: Статистический сборник / Российская книжная палата; Под ред. Г.И. Матрехина. М., 2000. С. 51.
36. Е.Б. Рашковский называет брошюры возбуждающим двойником книги. См. Рашковский Е.Б. Книжная культура в эпоху постмодерна: из записок российского книжника // Общество и книга: от Гутенберга до Интернета / Институт философии РАН. М.: Традиция, 2000. С. 167.
37. Печать Российской Федерации в 1999 году: Статистический сборник / Российская книжная палата; Под ред. Г.И. Матрехина. М., 2000. С. 77.
38. Об изменении тематического репертуара изданий по социальным наукам см.: Kozlova L . The Social Science Trade (1990‑2000): Bibliographical Notes // Intellectual News . No . 9. Automn , 2001. P. 75-79.
39. Печать Российской Федерации в 1999 году: Статистический сборник / Российская книжная палата; Под ред. Г.И. Матрехина. М., 2000. С. 5.
40. Гудков Л., Дубин Б. Молодые «культурологи» на подступах к современности // Новое литературное обозрение. 2001. № 4 (50). С. 157.
41. Гудков Л., Дубин Б. Молодые «культурологи» на подступах к современности // Новое литературное обозрение. 2001. № 4 (50). С. 161.
42. Гудков Л., Дубин Б. Молодые «культурологи» на подступах к современности // Новое литературное обозрение. 2001. № 4 (50). С. 162.
43. Гудков Л., Дубин Б. Молодые «культурологи» на подступах к современности // Новое литературное обозрение. 2001. № 4 (50). С. 158.
44. Гудков Л., Дубин Б. Молодые «культурологи» на подступах к современности // Новое литературное обозрение. 2001. № 4 (50). С. 158-159.
45. М. Ямпольскийсчитает, что в российской науке не существует механизма постоянного обновления. См.: Ямпольский М. Личные заметки о научной институции // Новое литературное обозрение. 2001. № 4 (50). С. 99. Это неверно, поскольку институциональные инновации, по всей вероятности, мобилизуются вне рамок университетов и научных учреждений — в сфере научного быта. В публикационном потоке, который в значительной степени производится в индивидуальном режиме, обновление прослеживается более отчетливо.
46. Романенко А.П. Советская философия языка: Е.Д. Поливанов — Н.Я. Марр // Вопросы языкознания. 2001. № 2. С. 116.
47. Рубрикатор автоматизированной информационной системы по общественным наукам: классификационная таблица / РАН; ИНИОН; Фундаментальная библиотека; Отдел каталогизации и электронных каталогов; Сост. Г.С. Антонюк; Отв. ред. В.В. Глинский, А.И. Слива. М ., 2000.
48. См .: Goffman E. Frame Analysis: An Essay on the Organisation of Experience. Boston: Northeastern University Press, 1986.
49. Тынянов Ю.Н. Литературный факт // Тынянов Ю.Н. Поэтика, история литературы, кино / Отв. ред. В.А. Каверин, А.С. Мясников. М.: Наука, 1977. С. 257.
50. Контроль над зоной преодоления границ и внесения инновационного образца в науку также осуществляется с помощью механизмов сравнения «нового» с традицией, которые не могут быть преодолены без критики и других попыток разрушения институционализированного архива, чтобы создать ареал для интеграции в пространство, где результат признается в качестве релевантного и ценного. Примером такого разрушения является создание «собственных» журналов и выпуск книг «под авторской редакцией», которые являются «новыми» уже в силу их неподчиненности контролирующим механизмам традиционных институтов. Ситуация, однако, становится совершенно прозрачной, когда обнаруживается, что целью инновации является как раз переход из профанного состояния в институционализированный архив науки. Однако, как показал Б. Гройс, между профанным силовым давлением и культурной валоризацией нет прямых связей. «Любой профанный феномен валоризируется только тогда, когда он может быть встроен в культурную память по ее собственным правилам, — в противном случае ему не поможет никакой профанный успех». Но источником валоризации может быть что угодно: и сочувствие к профанному, и чистый карьеризм, и воля к власти, и идеалистические мотивы. Важно только то, что удалось пересечь границу, отделяющую культурную память от внешней среды. Новое может создаваться в процессе работы с рутинным материалом, например, табличными данными, и его реинтерпретация будет означать преодоление границы. Но в этом случае новое является скорее предметом вторичной интерпретации, поскольку указание на аномалию является не более чем указанием на аномалию, которая может быть следствием ошибок в регистрации данных или просто случайностью. Новое здесь возникает как концептуализация данной аномалии в нетривиальном языке, как правило, при условии введения новых описаний. См.: Гройс Б. О новом // Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Изд-во «Знак», 1993. С. 149.
51. Включение в текст непосредственного усмотрения сущностей, истолкования невыразимого выводит рассуждение за пределы обсуждения, здесь почти неизбежно возникают сверхценность и прерогатива говорящего быть в некотором отношении избранным и разделять сверхценность истолковываемой идеи. Здесь остается только любоваться константами национального духа и русского «лингвистического характера». Апелляция к «народному духу» в самой конструкции речевого действия содержит постулат сверхценности этого национального «духа» — миф, который почти в равной мере присутствует в истории всех национальных культур. См.: Автономова Н.С. Заметки о философском языке: традиции, проблемы, перспективы // Вопросы философии. 1999. № 11. С. 14.
52. Чудакова М.А. Литература советского прошлого. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 249.
53. Хазагеров Г.Г. Система убеждающей речи как гомеостаз: ораторика, гомилетика, дидактика, символика // Социологический журнал. 2001. № 3.
54. Исключение составляет исследованный А.Г. Левинсоном феномен «макулатурной книги» в 1980-е годы.
55. Чередниченко Т.В. Между «Брежневым» и «Пугачевой»: типология советской массовой культуры. М.: РИК «Культура», 1993. С. 48.
56. «Новое» в социальном дискурсе возникает, как правило, в виде лексических инноваций, которые не столько маркируют неизвестные реалии, сколько позволяют перейти границы и переоценить ценности, сделать значимым то, что вчера не замечалось. Например, инновации в интеллектуализированной массовой речи 1990-х годов представлены заголовочными словоформами «девиация», «клиентелизм», «тоталитарное», «адаптация», «истеблишмент», «менеджмент», «ментальность», «модернизация», «мониторинг», «субъекты» (см. Приложение 2). В частности, слово «субъект» в «умной речи» значительно изменило свою традиционную семантику, утратило пренебрежительную коннотацию, обозначая возможность самостоятельного действия. Уже можно без выраженного сарказма сказать, что в Академию наук входят более 700 субъектов. А бытовой стиль речи сохраняет за «субъектом» сниженное значение.
57. Чередниченко Т.В. Между «Брежневым» и «Пугачевой»: типология советской массовой культуры. М.: РИК «Культура», 1993. С. 50.
58. Б. Гройс пишет, что в послесталинский период в стране возникла интенсивная художественная практика, в рамках которой в сферу художественных ценностей стало переноситься все, что раньше считалось неискусством — матерный язык, тяжелая и монотонная повседневность, религиозный экстаз, эротика, русская национальная традиция и новые «попсовые» моды . Равным образом, путем трансмиссии создаются тематические инновации в социальных науках. Например, «образ жизни» не мог быть категорией марксизма-ленинизма в его версии 30-х — 40-годов, но в 70-е годы данное понятие активно трансформировало концептуальный аппарат социальной теории. См.: Гройс Б. Утопия и обмен: вместо введения // Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Изд-во «Знак», 1993. С. 6-7.
59. М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорский говорили, что: если вы имеете дело с языком, значит, мысли, сознания здесь уже нет, остался только панцирь бывшей мысли. Тем самым формой репрезентации реальности становится «порождение» речи, речедеятельность, заумная речь, ономатопея. Н.С. Автономова пишет, что для культуры это суицидальная установка: нельзя работать с языком, которому нельзя доверять ни в чем, который может лишь свидетельствовать о том, что мысль уже умерла. См.: Автономова Н.С. Заметки о философском языке: традиции, проблемы, перспективы // Вопросыв философии. 1999. № 11. С. 23.
60. Марксизм содержал в себе нередко противоположные идеологические и эпистемические установки. Э. Свидерски заметил, что в Польше философ имел две руки, а в России «социальный ученый» имеет несколько голов. Здесь мы имеем дело со специфическим типом «двоемыслия». Например, в гуманизме Э.В. Ильенкова имеется некий зловещий элемент, сближающий его с ортодоксальным сталинизмом, то есть со взглядами, которые сам Ильенков часто характеризовал как противоположные своим собственным. Для Ильенкова наука без гуманистических ценностей — не наука. Механические силы это всегда силы зла. См.: Бэкхерст Д. О живом и мертвом в философии Э.В. Ильенкова // Вопросы философии. 2001. № 5. С. 174.
61. Оккультистское движение в русской литературе «серебряного века» детально освещается Н.Н. Богомоловым. См.: Богомолов Н.Н. Русская литература начала XX века и оккультизм: исследования и материалы. М.: Новое литературное обозрение, 1999.
62. «В этих компаниях завязывались романы, возникали и разрушались семьи, — пишет Л.М. Алексеева. — Пели, танцевали, слушали музыку и песни… Больше всего в этих компаниях “трепались”». Эти разговоры помогали понять, нащупать, что же представляет собой советское общество и как в нем жить». См.: Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР: новейший период. Benson: Khronika Press, 1984. С. 247.
63. Феномен культурного нигилизма, по П.А. Кропоткину, наложил свою печать на всю жизнь интеллигентного класса и породил писателям их искренний характер, манеру «мыслить вслух». «Прежде всего нигилизм объявил войну так называемой условной лжи культурной жизни. Его отличительной манерой была абсолютная искренность. В имя ее нигилизм отказался сам — и требовал, чтобы то же сделали другие, — от суеверий, предрассудков, привычек и обычаев, существования которых разум не мог оправдать. Нигилист признавал только один авторитет — разум, он анализировал все общественные учреждения и обычаи и восстал против всякого рода софизма, как бы последний ни был замаскирован. <…> Вся жизнь цивилизованных людей людей полна условной лжи. Люди, ненавидящие друг друга, встречаясь на улице, изображают на своих лицах самые блаженные улыбки; нигилист же улыбался лишь тем, кого рад был встретить. Все формы внешней вежливости, которые являются одним лицемерием, претили ему. Он усвоил себе несколько грубоватые манеры, как протест против внешней полированности отцов. Нигилисты видели, как отцы гордо позировали идеалистам и сентименталистам, что не мешало им быть настоящими дикарями по отношению к женам, детям и крепостным. <…> Брак без любви и брачное сожитие без дружбы нигилист отрицал. Девушка, которую родители заставляли быть куклой в кукольном домике и выйти замуж по расчету, предпочитала лучше оставить свои наряды и уйти из дома. Она надевала самое простое, черное шерстяное платье, остригала волосы и поступала на высшие женские курсы с целью добиться личной независимости». См.: Кропоткин П.А. Записки революционера. М.: Московский рабочий, 1988. С. 283-284.
64. Базовая метафора «искренности» была обозначена в 1953 году в новомирской статье В. Померанцева «Об искренности в литературе». См. Померанцев В. Об искренности в литературе // Новый мир. 1953. № 12.
65. Формы интеллектуальной жизни и общения интеллигенции 60-х годов рассмотрены в великолепной работе С.С. Рапопорта. См.: Рапопорт С.С. Интеллигентские позы // Вильнюс. 1993. № 3, 4.
66. Текстовая атмосфера обновления социальных наук была тесно связана с поэтической речью. В конце 50-х – начале 60-х годов люди «болели» стихами Ахматовой, Мандельштама, Гумилева, Цветаевой, Бродского. Знание стихов стало своеобразным паролем «своих». Именно страсть к стихам породила первые сходки под открытым небом и развертывание диссидентского движения. Когда власти попытались воспрепятствовать поэтическим сходкам, возникло сопротивление и в 1961 году были арестованы и осуждены за антисоветскую агитацию В. Осипов, Э. Кузнецов и И. Бакштейн. См.: Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР: Новейший период. Benson: Khronika Press, 1984.
67. «Власть и угнетение не являются привилегий лишь логоцентризма, утверждения универсальной истины, провозглашения последнего откровения. Профанное недоверие к любой истине, неуважение к любому знанию и релятивизация любых ценностей также на свой лад крайне деспотичны. Философия постоянно использует профанный антикультурный скептицизм для того, чтобы девалоризировать с его помощью традиционные культурные дискурсы, но она использует и философскую аргументацию против профанной, чисто негативной самоуверенности, рождающейся от равнодушия к любой истине. Философы, таким образом, выступают посредниками между валоризированной культурой и профанной средой, девалоризируя культурные ценности с помощью профанных аргументов, и валоризируя определенные профанные истины с помощью философских аргументов». См.: Гройс Б. О новом // Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Изд-во «Знак», 1993. С. 223
68. В статье Г.О. Винокура «О революционной фразеологии» (ЛЕФ. М.-Пг., 1923. № 2.) выражается протест против монотонности советской пропаганды, делающей ее, по мнению автора, совершенно неэффективной. Однако формалистические исследования «заумного языка» (у В. Хлебникова) показали как раз противоположное: отделение содержания от формы создает возможности для сознательного и планового управления языком и, тем самым, исключительно эффективную для массового узуса речь. Винокур предлагал поэтизировать революционную фразеологию и это осуществляется в языке, который он считал неэффективным. «Хлебниковский проект новой магической речи, призванной соединить говорящих за пределами «разумного» языка, стал основой советского социального дискурса. Именно в том момент, когда партийные лозунги перестали восприниматься массой как таковые, они «овладели ей». Стали ее подсознанием, образом ее жизни, ее саморазумеющимся фоном,.. и, соотвественно, стали заумными, перестали транспортировать какое-то определенное содержание, то есть с точки зрения самой же формалистической эстетики «формализовались», «эстетизировались». См.: Гройс Б. Стиль Сталин // Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Изд-во «Знак», 1993. С. 46.
69. А.Я. Гуревич называет книгу М.М. Бахтина «Франсуа Рабле и народная культура Средневекья и Ренессанса» (1965) гениальным изобретением, мифологемой, не выдерживающей проверки историческими фактами, но оказавшей огромное воздействие на образованную публику рассуждением о теле народной культуры, воплощенной в «низу». Понятия «гротеска», «амбивалентности», «карнавала», «ментальности», «диалога» явили собой альтернативу уже мертвым категориям истмата. Аллюзия на разнузданность, явленность телесного низа вызывала обожание у поклонников Бахтина. «Карнавал» заворожил многих и его стали искать где угодно и находили. — Устное выступление А.Я. Гуревича. 5 апреля 2000 г., Институт всеобщей истории РАН. Ссылаясь на материалы уголовного дела по обвинению знаменитой актрисы в убийстве сожителя, О.Г. Чайковская пишет о «карнавализации» жизни актерской богемы как одной из форм подражания литературному образцу. См.: Чайковская О.Г. «Я поворотил лошадь…» // Чайковская О.Г. Соперники времени: опыты поэтического восприятия прошлого. М.: Советский писатель, 1990. С. 271-283.
70. Чередниченко Т.В. Между «Брежневым» и «Пугачевой»: Типология советской массовой культуры. М.: РИК «Культура», 1993. С. 24.
71. Чудакова М.А. Без гнева и пристрастия: формы и деформации в литературе 20-х—30-х годов // Чудакова М.О. Литература советского прошлого. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 332.
72. Аверинцев С.С. «Мировоззренческий стиль»: подступы к явлению Лосева // Вопросы философии. 1993. № 9.
73. Прат Н. Лосев и тоталитаризм // Вопросы философии. 2001. № 5. С. 78-84.
74. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.:Искусство, 1983. С. 891-892.
75. Склонность Н.С. Хрущова окружать себя известными учеными, демонстрируя свою приверженность передовой науке, оказала очень большое, но до сих пор не исследованное должным образом влияние на процесс формирования научной политики. Есть основания предполагать, что многие принципиальные решения середины 1950-х и последующих лет получили стартовый импульс именно в силу подобной системы отношений. Возможно так же, что в постсталинский период была сделана попытка трансформировать «научный истеблишмент» в один из ключевых компонентов советской элиты, куда уже входили партийный аппарат, управленческая бюрократия и военно-промышленный комплекс. История новосибирского Академгородка пример превращения научных сотрудников в «политическую элиту». См.: Водичев Е.Г., Куперштох Н.А. Первое десятилетие истории Новосибирского научного центра: институциональные коллизии и судьбы научных лидеров // Социологический журнал. 2002. № 2.
76. Гройс Б. Стиль Сталин // Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Изд-во «Знак», 1993. С. 17.
77. Гройс Б. Стиль Сталин // Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Изд-во «Знак», 1993. С. 19.
78. В эссе «Истребление тиранов» В.В. Набоков показывает убийственность смеха для «серьезной» и кажущейся непреодолимой власти. См.: Набоков В.В. Истребление тиранов // Набоков В.В. Собрание сочинений. Т. 7. М.: Аграф, 2001.
79. Характерные черты доказательств в теориях заговора: (1) малоизвестность, склонность к невероятному и эзотерическому (2) нежеление разглашать источники информации (3) доверие к фальшивкам (4) псевдофакты в избыточно-ученом антураже и педантичные ссылки (5) нагромождение теорий заговора (6) объявление противоречащих данной теории свидетельств признаком заговора (7) неразборчивое использование любых аргументов, указывающих на заговор (8) невнимание к ходу времени (9) бесцеременное обращение с фактами. «Отличительная черта параноидального стиля не в том, что его носители повсюду в истории находят заговоры, а в том, что они считают «огромный» или «гигантский» заговор движущей силой исторических событий. Сама история — это заговор». См .: Hofstedter R. The Paranoid Style in American Politics and other Essays. New York , 1967. P. 29.
80. Оригинальная трактовка рецепции платонизма в истеллектуальной истории России содержится в монографии Ф. Нетеркотт. См .: Nethercott F. Russia's Plato: Plato and the Platonic Tradition in Russian Education, Science and Ideology (1840-1930). Burlington, VT: Ashgate, 2000.
81. Гаспаров М.Л. Поэзия и проза – поэтика и риторика // Гаспаров М.Л. Избр. труды. Т. 1. О поэтах. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 535.
82. Л.Э. Найдич полагает, что зачитывание письменного текста без всяких отклонений от написанного типично для тоталитарного общества. Наоборот, периоды институциональных изменений создают стиль свободного непринужденного размышления. В конце 1980-х годов «прямой эфир» стал символом безыскусной, честной коммуникации с выраженным пренебрежением к официальной норме лексической, фонетической, грамматической. Письменная речь воспринималась в 1970-е и 1980-е годы как официозная и лживая. Поскольку документ (особенно бюрократический) принадлежит к «фикциям», на которых держится социальная структура, ее разрушение начинается обычно со снижения ценности документированной речи. См.: Найдич Л.Э. След на песке: Заметки о русском языковом узусе. СПб.: 1995. С. 107-108.
83. Эзотерический компонент в марксистской общественной науке явлен риторикой прорицания, наложившей существенный отпечаток на советскую историографию. Марксистская теория была направлена на прорицание прошлого и будущего, а Маркс, Ленин и Сталин наделялись сверхъестественными качествами провидцев (c ообщение Н.В. Шаровой на семинаре А.Я. Гуревича, Институт всеобщей истории РАН, 13 марта 2002 года).
84. Валери П. Предисловие к «Персидским письмам» / Пер. с фр. // Валери П. Об искусстве. М.: Прогресс, 1985 С. 113.
85. Данное понятие введено Л. Эдвардсом. См .: Edwards L. The natural History of Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1927.
86. Edwards L. The Natural History of Revolution. 2nd edition. Chicago: The University of Chicago Press, 1970. P. 37-38.
87. Противоречивый характер «тоталитарной модели» и способность власти к перестройке и смене руководящих лиц и институтов при сохранении жесткой иерархической структуры отмечали Д. Хафф и М. Фейнсод. См .: Haugh J., Fainsod M. How the Soviet regime is governed. New York, 1963.
88. Действенность властных полномочий определяется не столько их технической рациональностью и продуманностью решений, сколько «коллективным представлением» о правомерности самого решения и верой в моральное предназначение власти, олицетворяющейся либо в вожде, либо «честной игре» индивидуальных интересов. Стоит только этой вере пошатнуться, власть начинает рассыпаться. Возможно, здесь проявляется «эффект антиципации»: предполагаемый результат действия оказывает существенное влияние на достижение реального результата. В этом отношении «интеллектуализация» власти ведет к ее разрушению.
89. Данная проблематика рассматривается в монографии Р. Уатноу. См .: Wuthnow R. Communities of discourse: Ideolody and social structure of the Reformation. Cambridge: Harvard University Press, 1989.
90. Понятие «идеократии» используется здесь в смысле Р. Арона и не связано с евразийской «идеей-правительницей». См .: Aron R. The opium of intellectuals. New York : 1962. Евразийский взгляд на общество основан на постулате преодоления индивидуалистической личности. Бытие отдельного человека вовлекается здесь в общее духовное восхождение. По Н.С. Трубецкому, идеократия заключается в приоритете идеального, этики и эстетики над прагматическим и рационально-техническим. Главное в идеократии — превосходство героического над торгашеским создается тоталитарным режимом, возглавляемым особо призванными личностями. Именно интеллектуалы заняты легитимацией героического в противовес давлению социального «низа». Они ставят себя на службу герою — великой исторической личности (в смысле Т. Карлейля). В отличие от демократии, идеократия это строй, в котором правящая элита отбирается по признаку преданности общей идее-правительнице, — писал Н.С. Тубецкой, — Признаком идеократического отбора должны быть не только общее мировоззрение, но и готовность принести себя в жертву идее-правительнице. См.: Трубецкой Н.С. Об идее-правительнице идеократического государства // Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана / Сост. А. Дугин, Д. Тараторин; Предисл. А. Дугина. М.: Аграф, 1999. С. 519.
91. Асоциальный потенциал заложен не только в страсти разрушения, присущей обездоленным (такова, например, воображаемая миссия пролетариата), но и в интеллектуальной фронде аристократов.
92. Чудакова М.О. Судьба «самоотчета-исповеди» в литературе советского времени (1920-е — конец 1930-х годов // Чудакова М.О. Литература советского прошлого. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 393.
93. Чудакова М.О. Судьба «самоотчета-исповеди» в литературе советского времени (1920-е — конец 1930-х годов // Чудакова М.О. Литература советского прошлого. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 402-403
94. См. публикацию Г.С. Батыгина о массовой театрализованной утопии 20-х годов: Батыгин Г.С. Метаморфозы утопического сознания // Квинтэссенция: Философский альманах. 1991 / Под ред. В.И. Мудрагея; Сост. О.Ю. Бойцова, Л.И. Греков, Д.А. Замилов. М.: Политиздат, 1992. С.263‑293.
95. Формирование обществоведческих учреждений при советском режиме рассмотрено в публикациях: Батыгин Г.С., Козлова Л.А. Политика в области науки и формирование советского философского сообщества в 1930-е и 1940-е годы // Россия и современный мир. 2001. № 3(32). С. 71‑87; Козлова Л.А. «Без защиты диссертации…»: статусная организация общественных наук в СССР, 1933-1935 годы // Социологический журнал. 2001. № 2. С. 145-158.
96. В российской научной организации дисциплинарные границы кажутся непроницаемыми, потому что кафедры, факультеты и номенклатура ученых степеней и званий являются не просто обозначением «областей», а административным перформативом. Институционализировать «область» практически невозможно. Более того, когда научный коммунизм и другие науки были вынуждены прекратить существование, они прекратили его под видом социальной философии, социологии, культурологии и политологии. В начале 1990-х годов рынок научной литературы превратил институциональные дисциплинины в периферийные — они были вынуждены участвовать в конкуренции и использовать схемы «добывания» и распределения ресурсов, которыми они располагали, в том числе презентировать свою воображаемую угнетенность при тоталитарном режиме. Радикальную инновацию в дисциплинарном репертуаре посткоммунистического периода представляет возможность свободного нарушения границ без каких-либо опасений.
97. Понятия «карьера», «успех», «доход», были в советском интеллигентном кругу если не бранными, то, по меньшей мере, неприличными и могли относиться только к «чужим». Доминировали стремление к самореализации, сосуществовавшее с максимой «не высовываться», интерес к «проклятым» вопросам и идеализируемое будущее. См.: Дубин Б. Интеллигенция и профессионализация // Свободная мысль. 1996. № 10.
98. Это относится, вероятно, ко всей гуманитарии. Например, отечественная филология сложилась не только как особая дисциплина, но и как своего рода «форма жизни». См.: Дмитриев А., Устинов Д. «Академизм» как проблема отечественного литературоведения ХХ века // Новое литературное обозрение. 2002. Том 53. С. 219‑242. Парсонсовское различение специфичности и диффузности в социальных структурах позволяет установить, что «интеллектуальная жизнь» исключает, например, предположение о том, что хороший химик может оказаться семейным тираном и картежником, а проникновенный композитор – закоснелым реакционером. Речь идет, следовательно, не о профессии, а о призванности. Именно это обстоятельство имеет в виду И. Берлин, когда пишет о глубине всеобъемлющего взгляда на неразделимость индивидуальной и социальной сфер жизни: «В чем бы ни заключалась цель человечества – в Государстве (согласно гегелевской доктрине), или в создании ученой, артистической и деловой элиты, правящей обществом (согласно последователям Сен-Симона и Конта), в Церкви ( если следовать сторонникам теократии) или в пардаменте реализующем волю нации (нсли принять ирчку зрения демократов и националистов), или, наконец, в том классе общества, который, по замыслу «истории», призван освободить себя и все человечество (позиция социалистов и коммунистов), главная цель имела право подчинить себе абсолютно все». См.: Берлин И. Молчание в русской культуре / Пер. с англ. О. Майоровой, А. Ахметовой // Берлин И. История свободы. Россия. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 340.
99. Интеллектуал определяется П. Бергером и Т. Лукманом как эксперт, экспертиза которого не является желательной для общества в целом. Он оказывается маргинальным типом в выработке определений реальности. В отличие от проекта «официального» эксперта, проект интеллектуала создается в институциональном вакууме, его социальная объективация в лучшем случае происходит в сообществе таких же интеллектуалов — прибежище девиантных определений реальности. Контропределения реальности требуют подобществ. Такого типа подобществом является религиозная секта. См.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. М.: Academia-Пресс, Медиум, 1995.
100. Malia M. What is the intelligentsia? // Russian intelligentsia / Ed. by R. Pipes. New York, 1961. P. 1-18.
101. Например, адресованная И.В. Сталину идея искусственного осеменения и улучшения генофонда населения при социализме связывалась Г. Меллером с необходимостью научного управления биологическими и социальными популяциями. Такие возможности, по Меллеру, возникают только в социалистическом обществе. См.: Письмо Г. Меллера И.В. Сталину, 5 мая 1936 года / Публикация В.В. Бабкова // Вопросы истории естествознания и техники. 1997. № 1. С. 68-76.
102. Символические репрезентации стиля жизни в новоевропейском Просвещении представлены, в частности, феноменом «дендизма». См.: Вайнштейн О.Б. О дендизме и Барбе д’Оревильи // Барбе д’Оревильи Ж.-А. О дендизме и Джордже Браммеле: эссе / Пер. с фр. М. Петровского под ред. А. Райской; Предисл. О. Вайнштейн; Вступ. статьи М. Кузмина; Примеч. О. Вайнштайн и А. Райской. М.: Изд-во «Независимая газета», 2000. С. 5-42.
103. «Слияние с волей партии, непрерывное переживание власти над материалом, соучастие в едином интеллектуально-художественном проекте стало основой включения «социальных ученых» в аппарат власти. Воля к подвигу, вера в иррациональные силы человека, безграничное преодоление материи стали доминирующим мотивом стахановского шахтерского движения, научной организации труда у Гастева, лысенковской агробиологии, стальной воли Маресьева, ликвидации различий между умственным и физическим трудом, городом и деревней, химизации всей страны. Этот высокий образец подвижничества создал и свою низкую альтернативу: образ вредителя, совершающего титанические разрушения». См.: Гройс Б. Стиль Сталин // Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Изд-во «Знак», 1993. С. 59. Аналогичный мотив лежал и в основе политики «ускорения», разрушившей этот дискурс.
104. «Тотальное подчинение всей экономической, социальной и просто обыденной жизни страны единой плановой инстанции, призванной регулировать даже ее мельчайшие детали, гармонизировать их и создавать из них единой целое, превратило эту инстанцию — партийное руководство — в своего рода художника, для которого весь мир служит материалом, при том, что его цель — «преодолеть сопротивление материала», сделать его податливым, пластичным, способным принять любую нужную форму». См.: Гройс Б. Стиль Сталин // Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Изд-во «Знак», 1993. С. 11.
105. Berlin I. Four essays on liberty. New York , 1969. P. 150-151.
106. Hofstedter R. Anti-Intellectualism in Amarican life. New York, 1962.
107. Hollander P. Political Pilgrims: Travels of Western intellectuals to the Soviet Union, China, and Cuba, 1928-1978. New York: Oxford University Press, 1981. P. 60.
108. Б. Арватов выразил мысль, что художники должны стать организаторами всей жизни общества, чтобы придать ей художественную форму. Он находился под влиянием «всеобщей организационной науки» А.А. Богданова, которая определяла теоретические установки «Пролеткульта». За всем этим просматривается фигура «социоморфа» — вождя, объединяющего и организационное, и эстетическое начала. Гностическая идея пресуществления тварного мира не противоречила принципу «партийности». Понятие «социоморф» рассматривается к статье Э. Свидерски.
109. Просветительский марксизм проникнут пафосом разоблачения социальных иллюзий. «И выбор материала, и стратегия анализа — все определялось установкой на демистификацию властных отношений, на выявление вездесущих механизмов господства-подчинения». Они всячески стремятся услышать в текстах голоса угнетенных и обездоленных. На деле угнетенные и обездоленные нужны им лишь в качестве воображаемой «материальной силы» или материала для наполнения идеи. См.: Козлов С. Наши «новые истористы» // Новое литературное обозрение. 2001. № 4 (50). С. 124.
110. Сохранить рабочую квоту в контингенте выпускников вузов практически не удавалось, поскольку рабфаковцы, как правило, умевшие только читать и писать, не могли освоить учебный материал. Это было характерно даже для Институтов красной профессуры: политика подготовки «красных профессоров» была идеологически ориентирована на рабочих, но фактически заканчивали институты интеллигенты. В конце 30-х годов и в 1940-е годы была ясно осознана необходимость привилегированного положения интеллектуалов. См.: Козлова Л.А. Институт красной профессуры (1921‑1938 годы): историографический очерк // Социологический журнал. 1994. № 1. С. 96-112; Козлова Л.А. Комплектование Института красной профессуры, 1920-е годы // Социологический журнал. 1997. № 4. С. 209-220.
111. В конце 1960-х годов директор Института конкретных социальных исследований АН СССР академик А.М. Румянцев сказал: «Все предшествующие формации возникли естественным путем, а коммунистическая формация возникла не естественно» — и поразился своей мысли.
112. Рашковский Е.Б. Научное знание, институты науки и интеллигенция в странах Востока XIX-ХХ века. М.: Наука, 1990. С. 21.
113. Рашковский Е.Б. Научное знание, институты науки и интеллигенция в странах Востока XIX-ХХ века. М.: Наука, 1990. С. 31.
114. Пайпс Р. Русская революция: Пер. с англ. В 3-х томах. М., 1994.
115. Формирование институциональных порядков в СССР Н. Тимашев связывал с отходом от коммунистической идеологии.. См .: Timasheff N. The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in Russia. New York: E.P. Dutton and Company, 1946.
116. «Воспитание» задает смысл интеллектуальном проекту советского марксизма. Bildung —это не просто образование, а рост человеческой индивидуальности посредством духовного присвоения объективных форм культуры. Наука, с точки зрения этой воспитательной перспективы, должна обладать моральным воздействием, формировать личность «ученого» и его мировоззрение. Так создаются аристократы духа. «По мере того, как мандарины обретают все большую власть, их интеллектуальные вожди оборачиваются против той достаточно ограниченной идеологии, которую они первоначально разделяли, вытесняя ее своим идеалом образованности, который может стать достойной заменой дворянству крови». См.: Александров Д.А. Фриц Рингер, немецкие мандарины и отечественные ученые // Новое литературное обозрение. 2002. Том. 53. С. 113.
117. Диверсификация социального знания находит выражение в бытовании одних и тех же тем в различных «регионах» публичного текста. Действительно, в письменной речи представлено иное содержание, чем сказанное о том же самом устно. Здесь действуют пресуппозиции. Функциональное эшелонирование научного текста приобретает в данном случае превращенную форму, где, например, учебная литература не преобразует монографические темы и научный канон в учебный материал, а создает собственную социальную науку для массовой аудитории, которая по объективным обстоятельствам является студенческой. Этот пласт литературы соответствует требованиям дидактической рецитации и воспроизведения, но одновременно несет на себе выраженный отпечаток морального поучения. В этом отношении социальные науки постсоветской России наследуют задание научного коммунизма как политико-воспитательного предмета. Учебная литература по социологии образует самостоятельный тематический, стилистический и прагматический ареал бытования социологии. Нельзя с уверенностью утверждать, что «социология», представленная в академических журналах, является «ядром» всего корпуса социологических текстов. Для этого нужна непрерывная научная коммуникация, например, взаимное чтение и система корпоративного контроля, представленная школами, научной иерархией и сетевыми связями. Поскольку в человеческой жизни нет ничего такого, о чем нельзя было бы рассуждать, «социальные науки» являются фантомом, за которым стоят совершенно разнородные вещи. По всей вероятности формой бытования разнородного корпуса социальных наук (дискурса об обществе) является рецепция — создание границы между «своим» и «чужим» и восприятие некоторого образца как чужого. Это дает возможность любоваться «своим», но и «чужое» нужно для того, чтобы поддерживать границу и, соответственно, воспроизводить «свое». Пока «свое» и «чужое» описываются разными языками, условием воспроизводства культурного образца является рецепция, но как только появляется возможность говорить на одном языке, рецепция перестает существовать — здесь можно говорить лишь о трансмиссии (обращении) идей внутри «парадигмы». Кажется, что фрагментированный совокупный текст социальной науки воспроизводится скорее путем рецепции, конституирования границ, непрерывного деления, чем внутренней трансмиссии. Поэтому советский марксизм лишь кажется тематически и стилистически единой формой. На самом деле, пронизывая собой все пласты языковой картины мира, он представлял собой многообразный, диверсифицированный организм, лишенный традиции и трансмиссии.
118. Рецитация — форма речи, связанная с постоянным, нередко ритмическим, повторением одних и тех же лексико-фразеологических конструкций, обычно так создается «вдохновенной речи». Ритуальная композиция марксистских письменных текстов предполагает рецитацию высказывания «классика марксизма», а устная речь содержит еще и кинесическое и экспрессивное форсирование значимых элементов.
119. Федотов Г.П. Сталинократия // Федотов Г.П. О святости, интеллигенции и большевизме: Избр. статьи. Спб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1994. С. 131-132.
120. Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР: новейший период. Benson: Khronika Press, 1984. С. 243-244.
121. По-большевистски овладеть марксизмом-ленинизмом // Под знаменем марксизма. 1938. № 11. С. 39.
122. Философия рассматривалась как высшая ступень культурного просвещения, где знание доступно всем социальным слоям и мировоззренческая дискуссия в силу ее «жизненности» не знает границ, заданных компетентностью. «Партийность» как посвященность в подлинные ценности знания возвышала участника философствования до «идеи». Раннебольшевистская рапповская идея «литературной учебы» заключалась в том, чтобы писательская профессия стала доступной народу. Равным образом, философия, интегрированная в систему политического образования, становилась доступной всем. Результатом культурной революции было преодоление сакральности письменной речи, она уже не была образцом завершенной мысли, открытой только для истолкования, но и текстом, открытым для критики. Когда философская дискуссия стала всеобщей, преобразовался текст философии, где особую роль стали играть прецедентные образцы и темы, представляющие собой, как правило, перифразы из канонического ряда сочинений Маркса, Энгельса, Ленина. В этом отношении платоновские «начала души», имели большее значение, чем чтение и прилежание. Облик усталого партийца, стремящегося к правде крестьянина, честного в своих заблуждениях матроса, искренней и наивной комсомолки, трусливого интеллигента (об этом писал В.В. Набоков) создавали ряд не только психологических, но и эпистемологических типажей, образующих лестницу ценностей.
123. Swiderski E. Philosophical foundations of Soviet aesthetics: Theories and controversies in the post-war years. Dordrecht: Reidel, 1979. P. XIY.
124. В первую десятку перестроечных публицистов 1988 года входили Н. Шмелев, А. Нуйкин, Ю. Карякин, Г. Попов, Ю. Черниченко, А. Ваксберг, В. Селюнин, Ф. Бурлацкий, А. Стреляный, О. Лацис. См.: Клигер С.А. Рейтинг популярности публицистов // Экслибрис: научно информационный бюллетень. Вып. 1 / НПО «Всесоюзная книжная палата»; Институт книги. М.: Книжная палата, 1989. С. 21.
125. В 1987 г. Главлит СССР потребовал снять из статьи, предназначенной для опубликования в журнале «Социологические исследования», тезис о неэффективности свободного рынка в высокоорганизованной экономике. Это означало, что идея централизованного социалистического планирования не уже соответствовала цензурным требованиям. Тезис о «социалистической рыночной экономике» еще не был развернут.
126, Авторами самиздатовских материалов были даже ответственные работники ЦК КПСС и партийных изданий. Например, Рою Медведеву поставлял сведения сотрудник журнала «Коммунист».
127. Chomsky N. American power and the New Mandarins. New York, 1967. Н. Хомский акцентирует внимание на сотрудничестве американских интеллектуалов с правительством — тем самым они приобретали власть и влияние. Рассуждения Хомского основаны на предположении о трех типах позиций, которые занимают интеллектуалы по отношению к власти. Первые не причастны к власти, которая, по определению, подвержена коррупции, поэтому они предпочитают наблюдать, созерцать и оценивать общество, будучи независимыми от него. Вторая позиция предусматривает, что отстранение от власти имеет несомненные преимущества, однако допустимо ограниченное сотрудничество с ней. В такой ситуации интеллектуал принимает на себя обязательство просвещать власть, опять же занимая стороннюю позицию. Последователи третьей стратегии полагают, что интеллектуалы ни при каких обстоятельствах не должны сотрудничать с «плохими» политическими режимами, и в то же время ничто не препятствует им работать на «хорошую» власть, признающую их экспертные способности. В данном случае проблема осложняется тем, что определение власти как хорошей или плохой является не столько условием, сколько следствием сотрудничества. В 1930-е годы западные интеллектуалы считали возможным сотрудничество с коммунистическими режимами, одновременно занимая критическую позицию по отношению к «империализму». Определенные симпатии университетского сообщества вызвал нацистский режим в Германии 20-е – 30-е годы. Не без влияния сменовеховской доктрины сталинский режим интерпретировался русскими интеллектуалами как воплощение народной правды и справедливости. Особенно убеждали западных «попутчиков» сияющие гордостью глаза простых советских людей, рассказывающих о «вожде народов». Экзистенциальное объяснение приверженности подобным режимам заключается в том, что они дают практический ответ на вопросы, поставленные интеллектуалами. См .: Hollander P. Political Pilgrims: Travels of Western Intellectuals to the Soviet Union, China, and Cuba, 1928-1978. New York: Oxford University Press, 1981. P. 58.
128. Шелер М. Ресентимент в структуре моралей / Пер. с нем. А.Н. Малинкина // Социологический журнал. 1997. № 4. С . 93.
129. Darnton R. The High Enlightenment and the low-life of literature in the pre-revolutionary Francse // Past and Present. 1971. No. 51. P. 81-115.
130. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания / Пер. с англ. Е.Д. Руткевич. М.: Медиум, 1995. С. 153.
131. С 1926 по 1937 год количество научных работников возросло на 570%, инженеров и техников на 470%, агрономов – на 300%, работников культуры – на 500%.
132. Dunham V. In Stalin’s time: Middle Class Values in Soviet Fiction. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. P. 4.
133. Шепилов Д.Т. Воспоминания // Вопросы истории. 1988. № 5. С. 4-7.
134. АРАН. Ф. 1922. Оп. 1. Д. 835. Л. 18.
135. «Александровские мальчики» Федосеев, Кружков, Иовчук, по свидетельству Д.Т. Шепилова, были «стяжательско-карьеристской частью партийной и непартийной интеллигенции». Во время и войны и после ее окончания он занимались скупкой картин и антквариата. В 1954 году Александров, Еголин, Кружков устроили «вертеп» с актрисами, балеринами, даже школьницами, и этот вопрос отмечался в закрытом письме ЦК КПСС. Как свидетельствует Шепилов, Александров все глубже погружался в трясину алкоголизма и умер от цирроза печени. См.: Шепилов Д.Т. Воспоминания // Вопросы истории. 1988. № 5. С. 4-7.
136. В московском Доме ученых был своего рода полузакрытый клуб — пускали только по рекомендации, при том, что влиятельные лица этого салона не были влиятельными лицами в официальных учреждениях.
137. «Кружок является как бы кратковременной организацией того литературного молодняка, который, не удовлетворяясь официальной общепринятой литературой взрослых, пытается разрешить литературные вопросы по-своему», — писали М. Аронсон и С. Рейсер. Кружки создают литературу, в то время как официальные общества ею питаются. См.: Аронсон М., Рейсер С. Литературные кружки и салоны. Л.: Прибой, 1929. С. 36-37.
138. Социалистическое общество завершало историю и было прообразом последнего и абсолютного события, предназначение которого в мистической возгонке человеческого материала с целью получения из него «нового человека», во имя сталинского потустороннего трансисторического «нового гуманизма». См.: Гройс Б. Стиль Сталин // Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Изд-во «Знак», 1993. С. 50.
Приложение

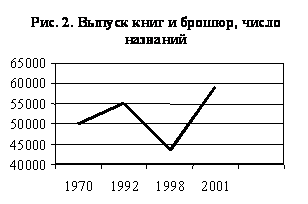
Таблица 1
Лидеры продаж учебников и учебных пособий по философии, социологии,
культурологии и политологии, 2001 год, данные издательской и книготорговой корпорации «КноРус»